Глава 7. Демократическая интерпретация русского мировоззрения. Пути становления «мысли народной» в поэзии Н.А. Некрасова и у писателей «народнической ориентации»
Дальнейшую содержательную эволюцию русского мировоззрения мы намерены рассмотреть на примере творчества Николая Алексеевича Некрасова (1821 – 1877) и писателей «народнической ориентации». Однако в связи с их творчеством, имея ввиду поставленную нами цель, прежде всего необходимо отметить следующее. Выполнение нашей работы может быть продолжено не только посредством рассмотрения содержащихся в тексте собственных размышлений художников, в том числе и непосредственно направленных на мировоззрение как предмет, но и путем нашего собственного выведения из изображаемых в их произведениях образов тех ценностей и смыслов, которые в них заключены. К тому же главный акцент в их творчестве, в отличие от творчества их предшественников, сделан не на помещике, а на простолюдине, в первую очередь на крестьянине.
Решение поставленной нами задачи облегчается тем фактом, что истинная сила явлений искусства, как точно подмечал А. Григорьев, «заключается в органической связи с жизнью, с действительностью, которым они служат более или менее осмысленным и отлитым в художественные формы выражением. А так как никакая жизнь, никакая действительность не мыслимы без своей народной, то есть национальной, оболочки, то проще будет сказать, что сила эта заключается в органической связи с народностью»[1].
Оценивая в целом творчество Некрасова, Н.Г. Добролюбов отмечал, что лишь в его поэзии «точка зрения народа» приобрела «всесторонность». Это суждение подтверждается и другими свидетельствами: многие демократически настроенные современники поэта слышали в его стихах не столько рассказ и размышления поэта о народе, а сколько рассказ народа о себе на его собственном, народном, языке. Вместе с тем важно отметить и то, как эта «точка зрения народа» выражалась. М.М. Бахтин, например, о Некрасове пишет, что придавая своей поэзии форму народной песни, он ее «своеобразно претворил и создал нечто совершенно новое», Некрасов – «типичный шестидесятник»[2]. И далее, раскрывая то, что им вкладывалось в это понятие: «Отличительной чертой шестидесятников является соединение социально-политических и критико-литературных проблем. Обсуждения общественных вопросов как самостоятельной области они в противоположность западноевропейским исследователям не знали и пытались связать их с литературным материалом. Эта особенность шестидесятников, как и вообще всей русской критики, объясняется многими причинами, как внешними, так и внутренними. Во-первых, этому способствовала цензура: из-за ее строгости литература использовалась как ширма для прикрытия социально-политических идей. Кроме того, социальной науки как таковой в России не было: она не имела даже своей терминологии, не имела соответствующих учреждений. И, чтобы не остаться без почвы, социально-политическая мысль, которая не смогла развиваться самостоятельно, должна была примкнуть к другой области. Но были для этого и более глубокие причины. Русская литература с самого начала лишена устоев. В допетровскую эпоху на литературу смотрели как на выразительницу религиозных идей. Петр подходил к литературе с утилитарной точки зрения. Поэтому и критика оказалась лишенной традиций, которые обусловили бы ей самостоятельное место. Лишенная собственных опор, она вынуждена была глубоко сплести свои судьбы с социально-политической областью. Так возник своеобразный тип статьи, где были смешаны вопросы из различных областей»[3].
Действительно, в таких, например, стихотворениях 1860-х годов, как «Деревенские новости», «Дума», «Похороны», «Что думает старуха, когда ей не спится», «Калистрат», «Орина, мать солдатская», «Железная дорога», а также в поэмах «Коробейники» (1861) и «Мороз, Красный нос» (1863-1864) крестьяне сами повествуют о своей жизни. Однако эти рассказы еще укладываются и в образную традицию фольклорного народного мировидения, являются выражением некоего народного всеобщего целого и далеки от индивидуального крестьянского взгляда на самих себя и окружающую жизнь.
Поэма «Коробейники» была первым эпическим произведением Некрасова, главными героями которого стали крестьяне. Да и само произведение было адресовано автором крестьянам, в том числе написано в доступной для них форме. Сам Некрасов подчеркивал это посвящением поэмы простому мужику Гавриле Яковлевичу Захарову.
В том же 1861 году поэт пишет стихотворение «Крестьянские дети», в котором труд крестьянских детей, на первый взгляд, изображен в кольцовских традициях, а именно как наслаждение, как поэзия народной жизни. На самом деле для произведения характерно как раз то, что кольцовский стиль здесь - скорее декорация, чем реальность. Он формирует внешнюю, театрально-праздничную сторону стихов, гораздо более сложных в сюжетном строении, нежели поэзия Алексея Кольцова, воспевающая крестьянский труд в анонимно-фольклорном ключе. С самого начала событие, воспроизведенное в стихотворении, есть объект зрительского наблюдения: с одной стороны, крестьянские дети следят за повествователем-охотником, который хоть и «не барин», с их точки зрения, на самом же деле, именно барином, то есть дворянином, помещиком, является; с другой стороны, сам повествователь наблюдает за детьми. Тем самым перед нами возникает своеобразный театр. Его начальные интонации заданы противопоставлением вольной, природной, естественной жизни крестьянских детей цивилизованному существованию «балованных деток» из дворянских семей. Собственно, и весь вольный «труд» крестьянских детей – это собирательство натуральных даров, присущее «детям природы», первобытным людям. Для крестьянских детей это даже и не труд, а более всего – забава.
… Но даже и труд обернется сначала
К Ванюше нарядной своей стороной:
Он видит, как поле отец удобряет,
Как в рыхлую землю бросает зерно,
Как поле потом зеленеть начинает,
Как колос растет, наливает зерно;
Готовую жатву подрежут серпами,
В снопы перевяжут, на ригу свезут,
Просушат, колотят-колотят цепами,
На мельнице смелют и хлеб испекут.
Отведает свежего хлебца ребенок
И в поле охотней бежит за отцом.
Навьют ли сенца: «Полезай, постреленок!»
Ванюша в деревню въезжает царем…[4]
Радующая глаз картина дана в некой первозданности, непосредственно с точки зрения дитяти, не обремененного обязанностями взрослого крепостного крестьянина. Перед нами разворачивается как бы карнавальный праздник возвышения наивной точки зрения на мир как точки зрения «царской», взгляд существа, еще не выделившегося из природного тела. Здесь Некрасов сознательно воспроизводит поэтическое видение Кольцова, крестьянский труд в произведениях которого как бы вынут из социально-исторической конкретности.
Впрочем, сам автор цитированных стихов вовсе не собирается увлекаться этой утопической картиной. Он тут же обрывает ее и показывает, что естественной жизни крестьянских детей вовсе не так уж и нужно завидовать, поскольку у этой «медали» есть и оборотная сторона. Вот перед нами разворачивается хрестоматийная картина выхода на «сцену» хорошо известного нам с малолетства мужичка-с-ноготок, которая, по ее завершении, комментируется менее памятными строками:
… На эту картину так солнце светило,
Ребенок был так уморительно мал,
Как будто все это картонное было,
Как будто бы в детский театр я попал!
Но мальчик был мальчик живой, настоящий,
И дровни, и хворост, и пегонький конь,
И снег, до окошек деревни лежащий,
И зимнего солнца холодный огонь –
Все, все настоящее русское было,
С клеймом нелюдимой, мертвящей зимы,
Что русской душе так мучительно мило,
Что русские мысли вселяет в умы,
Те честные мысли, которым нет воли,
Которым нет смерти – дави не дави,
В которых так много и злобы и боли,
В которых так много любви![5]
Поэзия крестьянской жизни у Некрасова, как правило, несет на себе «клеймо нелюдимой, мертвящей зимы». Образ этот, близко стоящий к образу смерти, в той или иной форме возникает у поэта постоянно. Поэтому пафос картин такого рода у Некрасова содержит не только звучную ноту любви. В нем также «много и злобы и боли» на то, что жизнь проходит мимо, а смерть наступает. И эта интонация есть, кажется, не только плод субъективного взгляда поэта на вещи, но и порождение самого крестьянского мироощущения, отраженного в фольклоре, которым с избытком насыщена поэзия Некрасова.
Идиллия крестьянского детства у Некрасова шатка. В финале стихотворения в сарае, в котором расположился охотник-наблюдатель, становится темно - начинается гроза. Мы видим сквозь дождь детишек, бегущих от грозы, как в знаменитой картине Маковского. Театральное действо завершено. Начинается проза жизни…
… Я выглянул: темная туча висела
Над нашим театром как раз.
Под крупным дождем ребятишки бежали,
Босые, к деревне своей…
Мы с верным Фингалом грозу переждали
И вышли искать дупелей[6].
Так участники этого миниатюрного карнавального празднества расходятся в разные стороны, занимают свои, реальной жизнью предуказанные места: крестьяне в одной, а баре - в другой социальной нише. Не зря К.И. Чуковский в своем фундаментальном исследовании творчества поэта пишет: «С самой ранней юности весь мир был разделен для него на два враждующих стана:
Два лагеря как прежде в божьем мире
В одном рабы, властители в другом.
…И «Железная дорога», и огромное большинство других стихотворений Некрасова написаны именно так: народ и народные друзья на одной стороне, народные враги - на другой, а между ними вековая баррикада. Поэтому всякого из своих персонажей Некрасов раньше всего определял и оценивал тем, на какой стороне баррикады сражается тот человек.
В том и заключалось для него воспроизведение тогдашней действительности, чтобы в каждом малейшем явлении жизни вскрывать непримиримые противоречия этих двух лагерей, «кипящую» между ними войну, отметая вымыслы о какой-то несуществующей гармонии классов»[7]. Конечно, в приведенном комментарии явно просматривается взгляд революционных демократов. Вместе с тем, в том, что пишет Чуковский, характеризуя пафос некрасовской поэзии, много правды.
Если говорить о том, каким у Некрасова изображается поместно-деревенский мир с точки зрения взаимодействия крестьян и дворян, то это мир корневого разлада между теми и другими. Разлад этот глубоко переживается, прежде всего, лирическим повествователем поэзии Некрасова. Так, в его раннем стихотворении «Родина» (1846) этот Повествователь посещает «знакомые места», где
… жизнь отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне Божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть,
Но, ненависть в душе постыдно притая,
Где иногда бывал помещиком и я…[8]
Причины надрыва в своем душевном мире, проклятья, которое легло на всю его жизнь, лирический Повествователь видит в краю его родном. С каким-то злорадным, болезненным наслаждением он констатирует, что «срублен темный бор», «нива выжжена», «праздно дремлет стадо», «набок валится пустой и мрачный дом». Так выражается едва ли не классовая ненависть автора по отношению к «сожителям» по сословию, напоминая о чувствах самих крестьян, какими их описывает на своих поэтических страницах Некрасов.
Усадебный мир, по Некрасову, есть источник разлада не только в душе и жизни дворянина, но и в жизни крестьянина. Вспомним стихотворение «В дороге», с которым к поэту пришла известность. В нем перед читателем предстает судьба молодой женщины-крестьянки, которая по прихоти своих господ смолоду была переведена в барский дом, росла и училась рядом с барышней. Но вот старый барин отдал Богу душу и девушка вновь оказалась «на селе». Историю эту слышит от ямщика его пассажир дворянского происхождения. Сам ямщик был женат на героине печальной истории и вывод его таков: «Погубили ее господа, а была бы бабенка лихая!»
Похожая история, но уже в «мужском» варианте, воспроизводится в стихах «Огородник» (1846):
Постегали плетьми, и уводят дружка
От родной стороны и от лапушки прочь
На печаль и страду!.. Знать, любить не рука
Мужику-вахлаку да дворянскую дочь![9]
Стихотворение «Вино» (1848) начинается с рассказа лирического героя о том, что его без вины «барин посек». Вторая главка повествует о наказе старосты выдать возлюбленную повествователя за другого. В третьей рассказчика обсчитывает купец. При этом, каждая из главок заканчивается рефреном об «осушении штофа». В стихотворении «Деревня» (1854) мы слышим жалобы старухи, сопровождаемые грустным рефреном: «Умер, Касьяновна, умер, родимая…». В «Забытой деревне» звучат ставшие давно афористичными по отношению к российскому житью-бытью слова: «Вот приедет барин – барин нас рассудит», а в «Похоронах» (1861) небогатое село погружается в неизбывный тревожный страх из-за того, что здесь «застрелился чужой человек».
Словом, картина крестьянского быта в лирике Некрасова рисуется удручающая. И фон этот - тот поэтический контекст, в котором появляются и «Крестьянские дети», и «Коробейники», контекст, еще более отделяющий поэзию Некрасова от его предшественника – А. Кольцова. Естественно, что и формирующееся в русле этого контекста поэтическое мировидение Некрасова совершенно иное. Оно трагедийно-пессимистично и в дальнейшем, как это будет показано на примере более поздних произведений, потребует ответа на вопрос «Как возможно в российской жизни позитивное дело?», а также, в излюбленной нашей формулировке, «Что делать?»
Об этой пессимистично-трагедийной окраске создаваемого Некрасовым мировоззрения свидетельствует и поэма «Коробейники». Открывающаяся веселой песней, поэма заканчивается печально. По мере развертывания действия общий колорит произведения все более мрачнеет. Ее сюжетно-композиционное решение таково, что в ее центре оказывается «Песня убогого странника», исполненная безысходного трагизма. Песня, по свидетельству одного из коробейников, сочинена утратившим из-за неправого суда свой дом крестьянином, в канавке кончившего свой век.
Вся песня – образ Руси как холодного, голодного, неуютного дома, распахнутого на все стороны света, давно отправившего своих обитателей в нескончаемое странничество. Ведь и коробейники – это странствующие крестьяне-«торгаши», то есть промышляющие мелкой торговлей крепостные. Коробейничество для них – вид заработка, подобно другим отхожим промыслам, которые часто упоминаются в некрасовских стихах, как, например, в поэме «Мороз, Красный нос». В ней крестьянин Прокл, исправно трудящийся на своей ниве, вместе с приходом зимы отправляется в извоз, где и простужается насмерть. А вот, например, одна из картинок некрасовского «Балета», изображающая мужика в зимнем извозе:
…В мерзлых лапотках, в шубе нагольной,
Весь заиндевев, сам за себя
В эту пору он пляшет довольно,
Зиму дома сидеть не любя.
Подстрекаемый лютым морозом,
Совершая дневной переход,
Пляшет он за скрипучим обозом,
Пляшет он – даже песни поет!..[10]
В поэзии Некрасова зима вообще выполняет роль сурового природного божества, своеобразного воплощения неумолимого крестьянского рока. Зима «доканывает», казнит некрасовских странников-крестьян, оторвавшихся от дома, в котором и без того «холодно» и «голодно», как поется в «Песне убогого странника». Притом, что коробейники и идут по Руси, встревоженной и обездоленной войной, о чем и сокрушается старый Тихоныч:
«Нашим делом нынче многого
Не добыть – не те года!
Подошла война проклятая,
Да и больно уж лиха,
Где бы свадебка богатая –
Цоп в солдаты жениха!
Царь дурит – народу горюшко!
Точит русскую казну,
Красит кровью Черно морюшко,
Корабли валит ко дну.
Перевод свинцу, да олову.
Да удалым молодцам.
Весь народ повесил голову,
Стон стоит по деревням…»[11]
Страна, по которой возвращаются (но не вернутся) домой коробейники, - кочевое пространство, на котором кого только нет. Все это похоже на ту «Пьяную ночь», которой завершается ярмарка в поэме «Кому на Руси жить хорошо». И здесь, как и в «Коробейниках», пожалуй, торгово-праздничный обряд оборачивается для русского мужика в конце концов горьким похмельем.
Сюжет поэмы разрешается трагически: убийство коробейников, гибель мечты крестьянской девушки Катерины о счастье с любимым. Сам убийца коробейников, именующий себя «лесником», по виду и сути все тот же бесконечный странник. Он не злодей по призванию, а голь перекатная с «дикими глазами», отчасти напоминает тургеневского Ермолая из «Записок охотника» с перемотанным, перевязанным бечевкою нескладным кремниевым орудием охоты.
Да и сам Христов охотничек
Ростом мал и с виду слаб.
Выше пояса замочена
Одежонка лесника,
Борода густая склочена,
Лычко вместо пояска…[12]
Все здесь – приметы крайней бедности. Совершив убийство, убогий мужичонко «тем же вечером» напивается в кабаке и выдает «почти всю правду» им содеянного. И так празднично стартовавшая поэма завершается, как припечатывается, горьким:
… Погребенью мертвых предали,
Лесника в острог свели…[13]
Феномен крестьянской судьбы в некрасовской поэзии – сущностная обреченность на страдание и в итоге смерть. На крестьянина угрожающе направлен сам мир, само бытие, а не только барская или чиновничье-государственная длани. В самом существе жизни крестьянина, особенно женщины-крестьянки, нет опор для счастливого ее обустройства. Отсюда и характер крестьянского мировидения как глубоко катастрофичного в своем существе.
Вообще, говоря о литературе шестидесятых годов, надо отметить, что она своими произведениями дает все меньше и меньше оснований для того, чтобы в ней можно было найти соприкосновение идеологии помещичьей усадьбы и идеологии крестьянской деревни, тем более в сочетании с попыткой обнаружить в их связи нечто гармоничное, как это было, например, у Гончарова или у Аксакова. Так, хрестоматийная поэма Некрасова«Кому на Руси жить хорошо», писавшаяся, начиная с середины шестидесятых годов и вплоть до смерти автора, рисует абсолютный крах именно усадьбы.
В этой связи обратимся прежде всего ко второй части поэмы, названной «Последыш». Эпическая картина покоса, которую наблюдают странствующие крестьяне, сменяется буффонной сценой появления князя Утятина, прозванного «последышем». И то, как ведут себя крестьяне, вчерашние утятинские крепостные при появлении помещика («Не зевать! Коси дружней! А главное: не огорчить помещика. Рассердится – поклон ему! Похвалит вас: ура кричи…»), равно как и весь ритуал появления и выхода Утятина из лодочки на берег – все поражает семерых «временнообязанных» странников.
… старый старичок:
Худой! как зайцы зимние,
Весь бел, и шапка белая,
Высокая, с околышем
Из красного сукна.
Нос клювом, как у ястреба,
Усы седые, длинные
И – разные глаза:
Один здоровый – светится,
А левый – мутный, пасмурный,
Как оловянный грош![14]
Конечно, образ Утятина – гротеск. Это, безусловно, не столько конкретный, живой человек, сколько обобщенная, почти фантастическая фигура принципиального крепостника-тирана, символ неподвижного в своей законсервированности мертвого мировоззрения этого сословного типа, еще недавно господствовавшего на Руси. За ним – уходящий в небытие мир дворянской усадьбы, на грани погибели обернувшийся образом уродливого существа, уже потустороннего, будто в последний раз вынырнувшего из каких-то адских глубин. Заметим попутно, что в данном случае речь идет только о том, что формируется в образной системе поэмы Некрасова, хотя это обстоятельство не отменяет того, что поэт в превращенном виде изображает свое мирочувствование.
Слыша, как помещик командует крестьянами, как они заискивают перед ним, странники дивятся:
Что за порядки чудные?
Что за чудной старик?..
… Чего же он куражится?
Теперь порядки новые,
А он дурит по-старому…[15]
Еще более удивляет семерку странствующих то обстоятельство, что и угодья это не помещичьи, а крестьянской вотчины, и все ему угождающие крестьяне – люди вольные. Но «тут статья особая».
… Помещик наш особенный,
Богатство непомерное,
Чин важный, род вельможеский,
Весь век чудил, дурил,
Да вдруг гроза и грянула…
Не верит: врут, разбойники!
Посредника, исправника
Прогнал! дурит по-старому.
Стал крепко подозрителен,
Не поклонись – дерет!
Сам губернатор к барину
В застольной дворня слышала;
Озлился так, что к вечеру
Всю половину левую
Отбило: словно мертвая
И как земля черна…[16]
Сумасшедший барин пришел в конце концов в такое неистовство, что в отмене крепостного права обвинил своих наследников и отказался признавать их своими детьми. Напуганные угрозой остаться без наследства, дети «возьми и брякни барину, что мужиков помещикам велели воротить».
Поверил! Проще малого
Ребенка стал старинушка,
Как паралич расшиб!
Заплакал! пред иконами
Со всей семьею молится,
Велит служить молебствие,
Звонить в колокола![17]
Но как наследникам сохранить достоверность обмана? Дворяне ударили челом крестьянской вотчине, упросив крестьян разыгрывать рабскую от барина зависимость, за что обещали им подарить «луга поемные по Волге». И крестьяне согласились, избрав для этого странного карнавала своеобразного крестьянского «шута» Климку Лавина, короновав его в «бурмистры». «По барину бурмистр! Перед Последышем последний человек!»Тут не лишне вспомнить убежденность Писемского в том, что бурмистры из мужиков – полезные миру люди. А по Некрасову, все, так или иначе связанное с устоявшимися (общинно-крепостными) нормами крестьянского мира и мировидения, должно подвергнуться переоценке.
Поэт выразительно описывает начавшуюся затем жутковатую карнавальную игру, смысл которой в том, что барско-рабское существование вахлацкой деревни и вместе с ней усадьбы Последыша есть непреходящий образ жизни, уродливость которого осознают и сами разыгрывающие эту нелепость. Острее всего абсурд происходящего отражается в судьбе крестьянского бунтаря Агапа. Ему надоело унижаться перед барином, и он взбунтовался. Естественно, от барина было получено указание высечь виновного. Клим уговорил Агапа разыграть сцену наказания. Агап согласился и после «наказания»… скончался.
С чего? Один Бог ведает!
Конечно, мы не тронули
Его не только розгами,
И пальцем. Ну, а все ж,
Нет, нет – да и подумаешь:
Не будь такой оказии,
Не умер бы Агап!
Мужик сырой, особенный,
Головка непоклончива,
А тут: иди, ложись!
Положим: ладно кончилось,
А все Агап надумался:
Упрешься – мир осердится,
А мир дурак – доймет!
Все разом так подстроилось:
Чуть молодые барыни
Не целовали старого,
Полсотни, чай, подсунули,
А пуще: Клим бессовестный
Сгубил его, анафема,
Винищем!.. [18]
Но и карнавалу низведения в рабство пришел конец. Второй удар хватил Утятина, и он приказал долго жить.
… Никогда
Такого вздоха дружного,
Глубокого-глубокого
Не испускала бедная
Безграмотной губернии
Деревня Вахлаки…[19]
Этот вздох облегчения, освобождения от власти крепостного Кощея, заставившего крестьян разыгрывать карнавал возвращения в рабство, многозначен. Потомственным рабам нелегка их участь рабского унижения и они страстно желают избавиться от нее. Но это процесс долгий и противоречивый. Не зря в финале тревожным напоминанием звучат слова настоящего бурмистра – мудрого Власа:
« - Бахвалься! А давно ли мы,
Не мы одни – вся вотчина…
( Да… все крестьянство русское!)
Не в шутку, не за денежки,
Не три-четыре месяца,
А целый век… да что уж тут!
Куда уж тут бахвалиться,
Недаром Вахлаки!»[20]
Действительно, бахвальство Клима и радость мужиков оказались преждевременными…
… Со смертию Последыша
Пропала ласка барская:
Опохмелиться не дали
Гвардейцы вахлакам!
А за луга поемные
Наследники с крестьянами
Тягаются доднесь.
Влас за крестьян ходатаем,
Живет в Москве… был в Питере…
А толку что-то нет![21]
Выходит, баре надули крестьян. Такой поворот сюжета делает их карнавал еще большим абсурдом, за которым в то же время открываются черты миропонимания крестьянина, еще недавно бывшего рабом. В потусторонней кощеевой внешности парализованного князя как в кривом зеркале отражается и рабское миросознание мужиков-вахлаков. Монстр, изображенный Некрасовым, - это образ того запредельного ужаса, который извечно тяготеет над душой крестьянина, проникает в нее, ее уродуя. Заключение дьявольского договора о вахлацком «придуривании» с наследниками князя – не что иное, как проявление искалеченности крестьянских душ. Не случайно рядом с бунтарем Агапом Некрасов показывает и дворового Ипата, который, как и его господин, ни за что не хотел принимать «воли». Между тем этот Ипат рисует страшные картины «забав» князя, в которых жертвою становится влюбленный в своего господина дворовый. И кажется, что как раз описанные издевательства князя делают Ипата еще преданнее своему господину.
Путешествующие по Руси герои некрасовской поэмы в своем масштабе, на наш взгляд, могут быть восприняты, том числе и как продолжившие с перерывом в несколько десятилетий гоголевское путешествие в поэме «Мертвые души». В самом деле. В обоих случаях перед нами воспроизводится панорама российской жизни. В обоих случаях герои поэм ищут счастья, хотя и по-разному ими понимаемого. В обоих случаях автором создаются картины российской действительности, четко дающие знать о смыслах и ценностях русского мировоззрения.
Вместе с тем в своей идейной направленности поэмы различаются существенно. Если у Гоголя внимание целиком сосредоточено на понимании изображаемого, на исследовании его природы под углом зрения его неприятия и беспощадного высмеивания, на указании несоответствия действительности истинному божьему замыслу, то сверхзадача некрасовской поэмы - иная. Поэт не заботится поиском причин сложившегося порядка вещей. Его больше волнует вопрос о том, как людям преодолеть существующую, долее невыносимую жизнь, что нужно предпринимать для ее радикального изменения, как, наконец, возможно в России позитивное дело. В акцентированной постановке такого рода вопросов с явной симпатией к революционному способу изменения положения вещей – главная особенность некрасовского творчества, равно как и творчества писателей народнической ориентации.
Давно отмечена ведущая линия некрасовского крестьянского сюжета – страдальческое положение русской женщины вообще и русской крестьянки, главным образом. Этот образ подтверждает и закрепляет представление о неизбывности мук и страданий в долготерпеливой жизни крестьянина. Ведь женщина-крестьянка – это и порождающее народное лоно. Это материнско-супружеская опора дома. Но как раз именно корневую систему, образно говоря, существования крестьянской семьи подрезает рок крестьянина.
На глазах у матери чахнет и умирает вернувшийся с солдатской службы ее сын («Орина, мать солдатская»). Причем, кончается он, так и не успев укрепить ветхую избу. Плачем завершается стихотворение 1863 года:
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!.[22].
Плач звучит и в финале стихов «В полном разгаре страда деревенская…» (1862). Да и весь их строй пронизан слезами «многострадальной матери».
Своеобразный апофеоз женской темы – поэма «Мороз, Красный нос» (1863). Здесь возникает образ глобального погребения крестьянского дома, крестьянской семьи. В жизненной яви мир для крестьянина – это все та же Зима. Счастливое же плодоносящее время, время лета, остается в предсмертных видениях матери-супруги, уходящей из этой, зимней жизни с ребенком во чреве. Как и в «Крестьянских детях», здесь изображается картина радостного, почти праздничного труда крестьянина на земле. Но эти картины суть порождение гаснущего сознания крестьянки. А наяву – ее смерть, равно как и зимнее странствие Прокла в извозе – причина его болезни и смерти.
Крестьянский сюжет в поэзии Некрасова ведет читателя из порушенного дома в сиротство дорожного странствия, будь то строительство железной дороги или странствие по дорогам Руси в поисках счастливо на ней живущего человека. В этом сюжете крестьянин часто выступает в роли наемного работника, который и после смерти
… тупо молчит
И механически ржавой лопатою
Мерзлую землю долбит![23] –
или в образе вечного странника, которому домой и вернуться-то не суждено.
Вот почему едва ли не эпиграфом ко всему поэтическому наследию Некрасова звучат строки из его небольшого стихотворения с символическим названием «Возвращение»(1864):
Сентябрь шумел, земля моя родная
Вся под дождем рыдала без конца,
И черных птиц за мной летела стая,
Как будто бы почуяв мертвеца![24]
А в стихотворении 1868 г. «Дома – лучше!» (оно, как и предыдущее, связано с темой возвращения на родину) радость возвращения покрывается горькой иронией финала:
… О матушка-Русь! ты приветствуешь сына
Так нежно, что кругом идет голова!
Твои мужики на меня выгоняли
Зверей из лесов целый день,
А ночью возвратный мой путь освещали
Пожары твоих деревень.[25]
Отраженное в поэзии Некрасова пространство усадебно-деревенской жизни все достойно пожара и прежде всего это, конечно, помещичья усадьба, которую, как сказано в поэме «Дедушка» (1870), «словно как омут», объезжает стороной каждый мужик. Во вступительной статье к цитируемому изданию некрасовской поэзии К. Чуковский сообщал, что в рукописных вариантах поэмы «Кому на Руси жить хорошо» поэт изображает деревенский пожар.
«Загорелась барская усадьба
И было так безветренно, -
Как /будто/ свечка в комнате,
Спокойным, ровным пламенем
Горел господский дом.
Дальше – еще три строки о пожаре, причем снова подчеркивается, что погода была очень тиха:
И было так безветренно,
Что дым над этим зданием
Стоял прямым столбом.
К горящему дому сбежались крестьяне, - очевидно, из ближайшей деревни. Пользуясь отсутствием ветра, они при желании могли бы без труда погасить это тихое пламя, но среди них не нашлось никого, кто выразил бы такое желание.
То был пожар особенный:
Ведра воды не вылито
Никем на весь пожар!
Как бы сговорившись заранее, крестьяне предпочли воздержаться от тушения пожара и до самого конца оставались пассивными зрителями. Молча, как будто в театре, они смотрели на горящее здание. Конечно, никто из них не осмелился высказать свою радость вслух, но была, как говорит Некрасов:
Какая-то игривая
Усмешка чуть заметная
У каждого в очах, -
Усмешка торжества и ликования.
Эти строки, недавно найденные среди рукописей Некрасова, так и не появились при его жизни в печати. Между тем для нас, читателей, эти строки имеют особую ценность: здесь описывается подлинный случай, происшедший с родительским домом Некрасова. Дом загорелся от неизвестной причины (не от поджога ли?) «в ясную погоду при тихом ветре» и весь сгорел дотла, так как никому из крестьян не хотелось тушить пожар.
«Ведра воды не было вылито», - сказала мне одна баба», - вспоминает об этом пожаре Некрасов. «Воля Божья», - сказал на вопрос мой крестьянин не без добродушной усмешки».
Дом большой, двухэтажный. Здесь Некрасов провел свое детство, здесь жили когда-то его отец, мать, братья, сестры; и все же, узнав о пожаре, он обрадовался не меньше крестьян, так как тоже ненавидел этот дом и вместе с крестьянами желал ему гибели»[26].
Здесь мы видим нечто более сложное, нежели только демонстрацию классовой ненависти как со стороны крестьян, так, как ни странно это звучит, и со стороны самого поэта-дворянина. Вообще стоит обратить внимание на распространенность образа пожара на страницах отечественной прозы в ХIХ в., начиная, может быть, с Пушкина. В его «Дубровском» герой-дворянин сам поджигает свой дом, хотя и будучи спровоцированный тираном Троекуровым и подкупленными им чиновниками.
Пожар в поэзии Некрасова – один из сюжетообразующих мотивов. Однако пожар этот не столько изображение классового волеизъявления крестьян, хотя часто их руками и сооружается (как, например, руками Архипа в «Дубровском»), и не столько провокация дворянина, ненавидящего свой дом, как в случае с некрасовским лирическим героем или даже в случае с Дубровским-младшим. Пожар в русской классике, тот пожар, при котором занимается как помещичий, так и крестьянский дом, - это, скорее всего, Божья воля, это едва ли не апокалиптический образ карающе-очищающего Огня, после которого на выжженном пространстве родной стороны, возможно, зачнется «Новый Иерусалим». В этом ключе, кстати, возникает и пожар Москвы в романе Л. Толстого «Война и мир».
Может быть, поэтому жители усадебно-деревенского мира так сравнительно легко его и покидают и с равнодушием, во всяком случае, внешним, наблюдают за его уничтожением, что явственно предчувствуют не только сам очистительный Пожар, но и восстание из пепла национального Дома, так сказать, в Царствии Небесном, но не на Земле. Ведь к этому именно и склоняется финал некрасовской поэмы «Кому на Руси жить хорошо».
Перелистаем еще раз поэму и отметим, кто из крестьянских «жителей» населяет выросший на ее страницах образ низовой России. Это, прежде всего, посетители «сельской ярмонки». Старик Вавилушка, который не в состоянии купить обещанные внучке башмачки козловые, поскольку «пропился до грошика». Толпа вдрызг пьяных, разметавшаяся по ночной возвратной с праздника дороге. Ее возглавляет народный идеолог Яким Нагой, отстаивающий право русского мужика на пьянство, оправданное, по его убеждению, «безмерным» мужицким горем и трудом. Образ этот построен на основе весьма широкого, архетипического обобщения как особого рода миф русского Пахаря:
Грудь впалая; как вдавленный
Живот; у глаз, у рта
Излучины, как трещины
На высохшей земле;
И сам на землю-матушку
Похож он: шея бурая,
Как пласт, сохой отрезанный,
Кирпичное лицо,
Рука – кора древесная,
А волосы – песок[27].
Но в поэме перед читателем пройдут и «счастливые»: «старуха старая, рябая, одноглазая»; «солдат с медалями», «чуть жив, а выпить хочется»; «с тяжелым молотом каменотес олончанин»; «мужик с одышкою, расслабленный, худой» (воочию явленное молодому каменотесу его недалекое будущее); «разбитый на ноги, дворовый человек»; как будто вышедший из загробного мира стихотворения «Железная дорога» «желтоволосый, сгорбленный» крестьянин-белорус; «какой-то пасмурный мужик с скулой свороченной»; «оборванные нищие» - все образы, родственные брейгелевским парадам уродцев.
Но вот, наконец, является воистину положительный образ мужика-хозяина Ермилы Гирина, одного из литературных родственников тургеневского Хоря. Со школы известна нашему читателю история его торгов с купцом Алтынниковым, которого он победил благодаря опоре на крестьянский мир. Этот крепкий мужик, староста, «молод, да умен»,
В семь лет мирской копеечки
Под ноготь не зажал,
В семь лет не тронул правого,
Не попустил виновному,
Душой не покривил…[28]
Но вскоре читатель узнает, что этот праведник и народный заступник сидит в остроге. А за его судьбой угадывается все тот же «пожар»: взбунтовалась вотчина помещика Обрубкова, Испуганной губернии, уезда Недыханьева, деревни Столбняки…
Как о пожарах пишется
В газетах…:
«Осталась неизвестною
Причина» – так и тут…[29]
«Потребовалось воинство», к народу обратился «государев посланный», «хотели уж солдатикам скомандовать: пали!», да кто-то предложил для разбора дела позвать Гирина. Пошли за ним…На этом месте рассказ о крестьянском праведнике прерывается без продолжения, но читателю уже известно, что «в остроге он сидит».
Третья часть поэмы – масштабная фигура «счастливой» Матрены Тимофеевны Корчагиной («Крестьянка»), по прозвищу Губернаторша. Вся ее жизнь – борьба за самостояние крестьянского дома, прочность семьи. Наверное, поэтому третья часть начинается метафорическим описанием плодоношения матери Земли, предваряющим встречу с женщиной-матерью. Между тем описание деревни и усадьбы, куда направляются мужики в поисках «счастливой» Матрены, явно противоположно тому, какими предстают богатства Природы:
… Селенье незавидное:
Что ни изба – с подпоркою,
Как нищий с костылем;
А с крыш солома скормлена
Скоту. Стоят, как остовы,
Убогие дома…[30]
Это привычная в некрасовской поэзии картина разорения, омертвения крестьянского жилища в пореформенной России. Уродливым нагромождением следов от попыток выстроить нечто угрожающе значительное выглядит усадьба:
Огромный дом, широкий двор,
Пруд, ивами обсаженный,
Посереди двора.
Над домом башня высится,
Балконом окруженная,
Над башней шпиль торчит…[31]
Все это явно не предназначено для уютной домашней жизни. И действительно, какой-то сиротливый лакей сообщает странникам, что «помещик за границею, а управитель при смерти».
Как прусаки слоняются
По нетопленой горнице
Когда их вымораживать
Надумает мужик,
В усадьбе той слонялися
Голодные дворовые,
Покинутые барином
На произвол судьбы.
Все старые, все хворые
И как в цыганском таборе
Одеты…[32]
Таков образ пореформенного усадебного мира, окрашенный иронично-грустными тонами, близкий сатирической горечи Щедрина. На этом фоне судьба «счастливой» крестьянки Матрены выглядит настоящей трагедией, становится свидетельством катастрофического распада усадебно-деревенского бытия. Несмотря на то что «губернаторша» освободила из рекрутчины своего супруга, что «домом правит», что у нее «пять сыновей», она утверждает: не дело между бабами счастливую искать. Как аргумент звучит «бабья притча» о «ключах от счастья женского», переданная Матрене «святой старицей». По сюжету притчи, те ключи так крепко утеряны, что и Бог о них забыл. Здесь «доля русская», «долюшка женская» приобретает масштабы всеохватного мифа о неизбывном, навеки вечные определенном страдании. Все эти образы - фундамент крестьянского мировидения, наполняющего поэзию Н.А. Некрасова.
Вместе с образом неутихающего Пожара, готового объять собою и уничтожить и крестьянский, и дворянский миры, сюжетообразующим моментом в поэме «Кому на Руси жить хорошо» является и дорога, уводящая и дворянина, и крестьянина от мест обитания. Вместе с дорогой, возникающей в начале сюжета, появляется и образ великого распутья и переправы в конце. На этом распутье (или перепутье) собирается в отрывке «Пир – на весь мир» российская «вахлачина» – в виду заволжского города, опять же, сожженного пожаром.
В этой части поэмы перед читателем вновь проходят фигуры многоголосого крестьянского мира, в котором мы особо хотим выделить так часто встречающуюся на страницах нашей классической словесности фигуру дворового человека, симптоматичную для отечественного раздорожья – от дворовых Троекурова в пушкинском «Дубровском» до холуя Яши в «Вишневом саде» Чехова. Фигура эта – предельное развитие образа национальной бесприютности в отечественной классике. И эта бесприютность становится одним из определяющих моментов русского мировоззрения, каким оно предстает у Некрасова, да и вообще в русской литературе ХIХ века.
У Некрасова дворовый человек – воистину брошенный, бездомный. Если за спиной у пореформенного крестьянина все же некая почва, опора, то у дворового единственная почва – дом господина, по которому дворня теперь, как прусаки, слоняется. Раб без господина перестает быть значимой человеческой единицей. Поэтому он с помещиком одинаково катастрофично переживает распад крепостного мира. Комическую фигуру «разбитого на ноги дворового человека» читатель видит во время «пьяной ночи». Его «счастье» в том, что он наделен благородной барской болезнью - подагрой.
Чтоб получить ее –
Шампанское, бургонское,
Токайское, венгерское
Лет тридцать надо пить…
За стулом у светлейшего
У князя Переметьева
Я сорок лет стоял,
С французским лучшим трюфелем
Тарелки я лизал,
Напитки иностранные
Из рюмок допивал…[33]
В образе «любимого раба» князя Переметьева Некрасов показывает оборотную сторону усадебного мира, деформирующего человеческую индивидуальность дворовых людей, как это не раз изображала классическая русская проза (вспомним, например, очерки А.Ф. Писемского)[34]. Из их понимания и употребления начисто исчезают такие понятия, как достоинство, самоуважение, нравственное самостояние. Комедийно-сатирический вариант фигуры «любимого раба» сменяется драматическим вариантом во фрагменте «Последыш», в котором речь идет о фанатично преданном барину Ипате. Любовь его к князю Утятину весьма причудливо связывается в сознании холопа с издевательствами над ним.
«Достиг я резвой младости:
Приехал в отпуск князюшка
И, подгулявши, выкупал
Меня, раба последнего,
Зимою в проруби!
Да как чудно! Две проруби:
В одну опустит в неводе,
В другую мигом вытянет –
И водки поднесет…»[35]
Читатель хорошо чувствует рабские интонации рассказа Ипата, который как произведению искусства удивляется изобретательности своего господина по части мучительств над холопом. Как раз за эту-то изобретательность и любит Ипат князя, поскольку видит в ней высокое к себе внимание барина, которого он, по его мнению, недостоин. Такое извращенное восприятие мира и самого себя в этом мире не подразумевает никакого достоинства со стороны раба, поскольку он полностью растворяется в услугах барину. Именно в такой рабской преданности господину и безнравственном манипулировании человеческой индивидуальностью со стороны последнего и кроются корни того, что произошло с несчастной вахлачиной, рискнувшей в шутовской игре на какое-то время вернуться в прошлое.
Еще один тип дворового появляется на «поминках по подрезанным помещичьим «крепям» («Пир – на весь мир») – из слуг барона Синегузина. И опять мы видим существо маргинальное, от чего-то оторвавшееся и ни к чему не приставшее.
Так, подбегало-мученик,
Приписан к нашей волости…
… С запяток в хлебопашество
Прыгнул! За ним осталася
И кличка: «Выездной»[36]
А далее читатель знакомится с историей «холопа примерного – Якова верного», как бы продолжающей тему «любимого раба» Ипата, но в еще более драматичном выражении. Верный холоп Яков очень своеобразно «наказывает» барина за его несправедливость – самоубийством. Для дворового человека воля господина - безусловная опора и основа его существования, содержание образа жизни, складывавшегося веками и не подлежащего преображению.
Дворовый человек в русской литературе, одинаково презираемый как крестьянским миром, так и помещиком, а часто и своим создателем, автором, есть квинтэссенция рабской психологии, накопленной крепостным крестьянским людом и удобрившей почву его жизни. Отмена крепостного права, выбившая эту опору из-под существования огромной массы людей, бросила их в вынужденное бродяжничество в поисках пристанища, вроде того же «выездного» Викентия Александровича, людей, абсолютно не приспособленных к «вольной» жизни.
Дорога, на которой скапливаются все эти странники – и бывшие крестьяне, и бывшие дворовые, и помещики, и «служители культа», пронизывает не только сюжет поэмы «Кому на Руси жить хорошо», но и фактически все пространство творчества поэта. Образ дороги, как и образ пожара, происхождением связан с собственной биографией Некрасова. В автобиографических записках, которые поэт диктовал во время предсмертной болезни в 1877 г. сестре Анне и брату Константину, Некрасов обрисовывает местоположение сельца Грешнево, принадлежавшего отцу. Сельцо «стоит на низовой Ярославско-Костромской дороге, называемой Сибиркой, она же и Владимировка: барский дом выходит на самую дорогу, и все, что по ней шло и ехало и было ведомо, начиная с почтовых троек и кончая арестантами, закованными в цепи, в сопровождении конвойных, было постоянной пищей нашего детского любопытства…»[37] У ворот грешневской усадьбы обычно делался привал арестантов, а в семнадцати километрах дальше – в селе Тимохино находилась этапная казарма.
Эти автобиографические приметы в контексте творчества Некрасова приобретают глубоко символический смысл, тем более что о детстве поэта, о его семье почти не сохранилось мемуарных и документальных свидетельств. Усадебный мир, в котором вырастал Некрасов, формируется в нашем сознании почти исключительно на основе его стихов. И сам Некрасов, рассказывая о Грешневе, об отце, о ранней поре своей жизни, неоднократно ставил наравне с сообщаемыми фактами биографии строки стихотворений, как бы свидетельствуя их полную достоверность. Так жизнь поэта-дворянина, смешиваясь с его стихами, воссоединяется в нашем сознании в картину конкретного усадебного мира, черты которого в то же время приобретают характер широкого обобщения.
Усадьба в сквозном сюжете творчества Некрасова, - мир, глубоко ущербный, напоминающий тюрьму, которая держится исключительно на страхе. И чаще всего хрестоматийные строки, рисующие этот мир во главе с тираном, который «всех собой давил», но сам «свободно и дышал, и действовал, и жил», в биографии поэта связываются с фигурой отца поэта, А.С. Некрасова, типичного российского помещика средней руки. В нем проявлялись старинные барские замашки богатой в прошлом дворянской семьи, разоренной картежной игрой деда и отца Алексея Сергеевича и его самого в молодости. Отец Некрасова, при среднем достатке, содержал большую псовую охоту – псарню с 22 крепостными охотниками. На прокорм собак скупалось и забивалось до сотни лошадей в год. Всю жизнь он вел тяжбы, стараясь приумножить свое состояние. В последние годы жизни вдруг завел духовой оркестр, который также требовал значительных средств. В стихах Некрасова этот человек выглядит жестоким крепостником и самодуром, но в своих автобиографических записях поэт отчасти корректирует стихотворный образ, подчеркивая, что в ряду других крепостников его отец не был исключением, пользуясь правами, которые считались естественными и даже священными в его круге.
Образы жизни помещика и крестьянина как мира, снедаемого собственной ущербностью и жестокостью, обреченного на страдание и погибель, подкреплены у поэта собственной биографической конкретикой, а не является исключительно плодом субъективно-пристрастного взгляда художника на жизнь отечества. Некрасовская интерпретации усадебно-деревенского мироздания коренится в традиционном взгляде на эти миры, отраженном нашей словесностью ХVIII – ХIХ вв. Однако в отличие от других образов русской литературы, лирический герой поэзии Некрасова питает какую-то сверхъестественную ненависть к отдельным представителям дворянского сословия, если не ко всему сословию в целом, а в иных местах прямо призывает угнетенные классы к физической расправе над своими хозяевами.
Можно вспомнить, например, что чудовищный кровавый грех разбойника Кудеяра Бог прощает ему за убийство помещика Глуховского, с грехами которого преступления разбойника, как полагает Некрасов, просто не сравнимы. Весьма вероятно, что в переживаниях лирического героя Некрасова откликнулись впечатления детства самого поэта, связанные с его личным восприятием поведения отца, его взаимоотношений с матерью, родственниками, дворовыми, крестьянами и т.п. Поэт признавался: «…тут я очень рано сознал свое право и не отказываюсь ни от чего, что мною напечатано в этом отношении…».[38] В итоге в некрасовской поэзии рождается образ русского крестьянства, несущего на себе груз вечного, неизбывного страдания, когда смерть приходит как избавление. Но вместе с тем в поэзии явственно звучит призыв сбросить эту тяжесть, прибегая к революционному насилию. Так, в финальной песни народного героя поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Гриши Добросклонова звучат слова:
Рать подымается –
Неисчислимая,
Сила в ней скажется
Несокрушимая![39]
В сочетании с постоянно звучащими призывами «на бой и на труд» двойственное толкование этих слов вряд ли возможно. И в этом грядущем революционном действе, полагает Некрасов – истинное счастье:
Быть бы нашим странникам под родною крышею
Если б знать могли они, что творилось с Гришею.
Слышал он в груди своей силы необъятные,
Услаждали слух его звуки благодатные,
Звуки лучезарные гимна благородного –
Пел он воплощение счастия народного!..[40]
Таким образом, в некрасовском творчестве формируется новое смысловое и ценностное начало, возникающее, как полагает поэт, в русском мировоззрении у низших общественных, преимущественно крестьянских слоев. Это смысловое начало, прежде действительно не обнаруживаемое в столь явном виде, - представление и состояние счастья как радостного, спокойного и полного в своей содержательности пребывания человека на земле. Особенность этого элемента русского мировоззрения заключается в том, что возникает оно из мечтательности, а не из реальности, и потому принципиально утопично. Однако то, что касается способов его воплощения в жизнь, как это ни странно, видится Некрасову, да и всем писателям революционно-демократического направления как дело вполне понятное и осуществимое. Пока у Некрасова, пожалуй, одного из первых в русской словесности, способ достижения «счастия народного» формулируется кратко и не развернуто – борьба. Но явятся другие мыслители и содержательно раскроют это понятие во всей его многогранности. Тем самым в русском мировоззрении будет создаваться культурно-духовная основа для революционного действия со всеми вытекающими для реальности последствиями, о чем речь пойдет в нашим дальнейшем исследовании.
* * *
Смысловые и ценностные новации, созданные Н.А. Некрасовым при изображении русского крестьянства и формулировании своего видения русского мировоззрения («народное счастье», «страдание», «борьба»), были поддержаны и продолжены самодеятельной народной поэзией и народнической прозой. Голос крестьянина, связанные с ним понятия в русской литературе набирали все большую силу. Любопытен следующий факт, прямо не соотносящийся с литературным процессом, но имеющий отношение к реконструкции мировоззрения крестьянства на общественной арене шестидесятых годов ХIХ столетия.
В августе 1849 года на городскую почту Петербурга был сдан пакет, адресованный принцу П.Г. Ольденбургскому. В пакете находилась рукопись, озаглавленная: «Вести о России. Набраны из мирской жизни с дел и слов народа. С переложением в стихи полуграмотным крепостным господским по телу крестьянином; но по душе христианином – П.». В пакете находилась повесть в стихах неведомого крестьянина-самоучки – единственный в своем роде литературно-художественный памятник. И в то же время это был голос, громко заявивший о себе из «глубины России», то есть явление по тем временам совершенно уникальное.
Молодой крестьянин, от лица которого ведется рассказ, отпущенный на оброк и проживший восемь лет в Петербурге приказчиком у купца, возвращается на родину. Радость возвращения исчезает при виде крепостной деревни, от которой он уже успел отвыкнуть:
… Везде селения худые,
В жилищах дымных пустота,
Одежды на людях грязные,
Умы покрыла темнота.
В полях непаханой земли
И прочих мест гораздо боле,
Повсюду видны пустыри –
От безуспехов во неволе.
О, участь горька мужиков!
В тумане дни их протекают.
Мне жаль себя и земляков:
В нас все таланты погибают[41].
Вся заключительная часть повести - обвинение крепостникам-помещикам, написанное совершенно в духе революционных демократов:
… утренняя заря
В сердцах у русских занялася,
Хоть в темноте еще горя,
Но уж приметно проясняся.
Светает день, народ молчит,
Судьбы свои обозревает.
Находят тучи, месть ворчит –
Бояр род гордый не внимает.
Страдает мир, бичи ликуют,
В чертогах, в роскоши живут,
Но тайно между тем тоскуют
Ужасного определенья ждут[42]
Таким же неуклюжим слогом ведется далее рассказ о барской расправе над крепостными. Но в описании наказания мы слышим не только голос барина-садиста, а и крепостного, наказание исполняющего. Эпизод этот, с точки зрения автора, выглядит так:
«В конюшню варвар-ра ведите!
И вот толпа двоих вела,
Как в пышну спальню новобрачных.
Не сваха только главным шла –
Помещик, бич рабов несчастных.
Преступник шел, объятый страхом,
Как бездны страшный истукан.
Лицо покрылось чудным прахом –
Пришел в конюшню Андриан,
Разделся сам, перекрестился
И точно уже без печали
На страшную постель ложился.
Его мы крепко привязали,
Другие в левой стороне
Девицу на скамейку клали
И четверо ее держали.
Сперва все было в тишине.
С боков по паре молодцов
Веленья чутко дожидались.
Вдруг услыхали, начинали:
Прошел большой свист от дубцов,
И с ним дворянские припевы
Науки тенор наш запел.
Подстал дискант несчастной девы,
И кучер басом заревел.
И так распелся хор нестройный,
Что предстоящие боялись,
Народ по кухням полусонный
От звуков тоже содрогались…
Так долго, долго распевали,
Но наперед дискант, тут бас,
Знать, утомились, замолчали,
А тенор долго пел для нас
Потом и нежный наш певец
От злобы мщенья утомился,
Умолкнул он, и наконец
Во мраке в дом свой удалился.[43]
В этом фрагменте хорошо ощущается разнообразие интонаций: во-первых, многоголосие персонажей внутри самого текста и, во-вторых, жанровая неоднозначность. Происходящее здесь дается с точки зрения активного участника событий - крепостного, исполняющего наказание. Это, так сказать, лирический, - может быть, авторский голос. Мы слышим голоса и наказуемых, и барина, и всех, кто совершает порку, и даже тех, кто находится вне конюшни («народ по кухням полусонный»). Причем эта голосовая стереоскопичность носит оперный характер: здесь как будто все «поют». На самом деле, поет, забавляясь, один барин своим тенорком. Что касается остальных, то песней здесь зовется их стон, как выразился Некрасов.
В таком построении текста угадывается и горькая ирония, за этими строками ощущается и некая реальность, пережитая, возможно, самим автором. Но самое существенное состоит в том, что прозаически-бытовая картина, вероятно, часто встречающаяся в крепостной практике прошлой России, в преломлении авторского сознания жанрово возвышается до трагедийного катаклизма. Господское наказание выглядит нарушением основ мироздания, фундаментальной справедливости, а страдание наказуемых – всечеловеческой мукой.
Произведение это было создано в 1849 году, когда некрасовская лирика только начинала свое становление. (В 1848 году были написаны «Вино», «Вчерашний день часу в шестом…», перекликающиеся со стихами неизвестного крестьянина). Но если соотнести тексты, то обнаружится не просто перекличка некоторых частных мотивов, а воплощенная в текстах та же вселенская универсальность крестьянского страдания, которая присуща и лирике Некрасова. Можно было бы сказать, что Некрасов переносит в свою поэзию мироощущение, нашедшее отражение в стихах крестьянского поэта-самоучки. Вот почему, верно утверждать, что все творчество классика является своеобразной формой народного эпоса, то есть прямым выражением голоса бесконечно страдающей крестьянской массы.
В шестидесятые годы ХIХ века борьба против крепостного права объединила все слои интеллигенции в России. Одновременно крепли народнические идеи. Именно в этот период появились прокламации Н.Г. Чернышевского. В 1862 году создается «Земля и воля». Все активнее обсуждаются вопросы просвещения крестьян (Ушинский, Толстой). Впервые издаются серьезные труды по истории крестьянских движений и русской экономике. На страницах активно развивающихся общественно-литературных журналов печатаются статьи революционных демократов, вроде статьи Чернышевского «Критика философских предубеждений против общинного владения», в которой обосновывается революционная точка зрения на крестьянский вопрос. В ней, в частности, выражается требование ликвидации личной земельной собственности, освобождения крестьян с землей и передачи всей земли тем, кто ее обрабатывает. Крестьянская тема находит отражение и в работах Добролюбова – например, в статье «Черты для характеристики русского простонародья». Слышен голос славянофилов и почвенников в журналах «Русская беседа», «Молва», «День». Заявляет о себе герценовский «Колокол» – своеобразная хроника революционного движения в России и рупор русских «европейцев».
Историки литературы, современники и потомки Некрасова и писателей гоголевского направления видели в произведениях о народной жизни, написанных в шестидесятые годы, «новое отношение к народу». «После «Записок охотника» писатель уже не может ограничиться даже самыми точными внешними наблюдениями. От него требуют раскрытия внутреннего мира крестьянина, достаточно сложного и богатого. …Больше всех отдал дань старому Д.В. Григорович, сыгравший в 40-е годы значительную роль своими повестями «Деревня» и «Антон Горемыка», но и он, чувствуя, что старое уже неприемлемо, пытается создать романы о мужиках как о полноценных людях… …Эти романы можно отметить как явление симптоматическое в развитие крестьянской темы…»[44]
С шестидесятых годов интерес к русскому крестьянину делается устойчивым и его фигура все более вытесняет традиционные образы других русских земледельцев – помещиков. Как писал Ю.М. Лотман, герою из народа «суждено было стать одним из основополагающих типов русской литературы, пройти через значительное количество русских реалистов, видоизмениться, испытать полемические удары, пережить критические разборы. Это тип «маленького человека», который может быть поставлен в один ряд с мировыми типами»[45].
Значительная заслуга в установлении этого интереса, без сомнения, принадлежит в первую очередь писателям-демократам. Однако в сравнении с авторами предшествующего периода, в их размышлениях над судьбами и внутренним миром русского мужика есть и своя ограниченность. Они теряют способность видеть каждого крестьянина в отдельности, в его индивидуальном проявлении. В их изображении крестьяне как бы вновь оказываются в конце ХVIII - начале ХIХ столетий с присущим тому времени их обобщенным видением, неразличением лиц перед взором путешествующего барина.
Литературное направление демократов-шестидесятников не было однородным. Объединенные стремлением восполнить тот умственный, душевный и нравственный ущерб, который был нанесен народу веками крепостного права, они вместе с тем по-разному представляли себе способы выполнения этой задачи. Одни (Чернышевский, Некрасов, Слепцов) стояли за идею революционного изменения общества. Другие (Левитов, Решетников) выступали за его постепенное преобразование путем просвещения.
Так или иначе, но творчество писателей народнической ориентации было нацелено на более глубокое внедрение в психологию крестьянских характеров, которые, как оказалось, далеко не всегда обнаруживали содержательную глубину, а еще чаще были лишены внутреннего равновесия и гармонии. Так, размышляя над рассказами Н.В. Успенского, М.Е. Салтыков–Щедрин отмечает прежде всего их правдивость, лишенную какого бы то ни было украшательства. Но при этом с некоторым удивлением говорит, что так, как это изображается писателем, «русский крестьянский мир представляет собой не более, не менее, как обширное подобие дома умалишенных. Мужик этого писателя не имеет в голове ни одной мысли, ни одной серьезной заботы. Это какое-то нелепое животное, которое вечно празднует, вечно пьянствует, а в промежутках говорит глупые слова»[46]. С такого рода оценкой, безусловно, не согласились бы ни И.С. Тургенев, ни Л.Н. Толстой. Однако то, что такой взгляд в русской литературе, занятой исследованием содержания русского мировоззрения, был, игнорировать невозможно.
В шестидесятые годы к изображению народного мира обращается Василий Алексеевич Слепцов (1836 – 1878), который, по словам К. Чуковского, «сквозь грубость крестьянина… дает нам почувствовать его деликатность»[47]. В советское время Слепцов воспринимался как писатель-новатор. Оценка эта шла от характеристики, данной ему еще Максимом Горьким, который писал, что Слепцов брал темы новые, не тронутые до него. Горький, конечно, имел в виду жизнь низших слоев общества.
Действительно, Слепцов изображал не только крестьян, но рассказывал о фабричных рабочих, живописал уличную жизнь Петербурга. На взгляд Горького, очерки Слепцова «были полны намеков, вероятно, бессознательных, на судьбу отдаленного будущего страны, полны живого смысла, не уловленного в свое время, но его темы тотчас были подхвачены Глебом Успенским в книге «Нравы Растеряевой улицы», Левитовым и Вороновым в их славной книжке «Жизнь московских закоулков» и затем целой группой менее видных, забытых теперь писателей, сотрудников «Современника», «Отечественных записок», «Дела» и «Слова»»[48].
Отразить мировидение низового деревенского и городского человека, впрочем, недавно пришедшего из деревни, Слепцову помогало и то обстоятельство, что он много странствовал по Руси, присматривался к жизни народа, пытался постичь новые явления, появляющиеся в ней. Ему удавалось избегать натурализма и выходить на обобщения, вскрывающие чуть намечавшиеся закономерности и поэтому произведения его носили стихийно-проблемный характер. Этому содействовало еще и то, что произведения В. Слепцова - не столько повествования, сколько сценки, в которых действующие лица раскрывают сами себя. Отсюда и преобладание в них народной речи как опредмеченного мироощущения низового человека.
О первых шагах русского капитализма рассказывают, к примеру, его очерки «Из путевых заметок» (1860), посвященные постройке железной дороги и в известном смысле предваряющие хрестоматийное стихотворение Н.А. Некрасова. «Пробираясь пешком от деревни к деревне, - читаем у Чуковского, - он, наконец, дошел до тех мест, где производилась постройка Московско-Нижегородской железной дороги. Как въедливый следователь, Слепцов принялся собирать материал для обвинительного акта против руководителей этой постройки, разоблачая ту систему узаконенных подлостей, при помощи которой инженеры, подрядчики и прочие хищники эксплуатируют крестьян и рабочих, и установил очень четко, что дело здесь не в отдельных грабителях, а во всем государственном строе»[49].
О тяжелой жизни фабрично-заводских рабочих повествует очерк Слепцова «Владимирка и Клязьма». Рассказчик не морализирует, не высказывает своих чувств, не дает оценок. Но вместе с тем, при отсутствии явной тенденции, словно помимо авторской воли, слагается картина чудовищного разорения, голода, холода, рабства, болезней, насилий, унижений и обид.
Наибольшей высоты творчество Слепцова достигает в очерках «Письма об Осташкове» (1862 - 1863), «Питомка» (1863), «Сцены в больнице» (1863), «Ночлег» (1863) и в романе «Трудное время».Так, в рассказе «Питомка. Деревенские сцены» (1863) повествуется о страданиях матери-крестьянки, вынужденной пойти в кухарки и отдать свою дочку в воспитательный дом, который отправляет ее в «питомки» другой крестьянке. В безуспешных поисках матерью девочки, ее странствиях по деревням в течение двух дней, читателю открываются ужасающие сцены нищеты и бед. Встречающиеся женщине крестьяне не имеют самого необходимого, порой куска хлеба и чтобы унять голод пьют воду и лишь ее предлагают ее страннице.
Впечатление от произведения усиливается тем, что оно совершенно избавлено от сентиментальности. Жизнь крестьянки показана изнутри и потому все ее тяготы, даже самые страшные, выглядят привычными. В то же время в этом рассказе было и то, что, по словам Чуковского, внушало тогдашнему читателю надежду и радость. В нем «наперекор этому звериному быту с первых же строк возникал светлый образ деревенского праведника, который всем своим нравственным обликом противостоял бесчеловечной жестокости окружающей жизни. В беглом, лаконическом наброске Слепцова перед читателем вставал во весь рост замечательный русский характер – щедрый, веселый, открытый, чуждый ханжества, дружески расположенный к людям и притом не только не щеголявший своим благородством, но даже не подозревающий о нем. И что всего драгоценнее – образ этого праведника дан без малейших прикрас… Им восхищаешься и в то же время веришь в него – потому что это самый обыкновенный мужик того времени, неотесанный, темный, грубый; и, рисуя духовную его красоту, Слепцов не только не скрывает его отрицательных качеств, но всячески подчеркивает их, отчего образ становится правдивым и жизненным…»[50]
Путешествие по кругам деревенско-крестьянского ада достигает своей кульминационной точки в финале повествования, когда в одной деревенской избе у больной хозяйки странница находит трехлетнюю девочку, может быть – свою дочь. Ребенок так же был в жару и лежал в темноте на лавке, прикрытый каким-то тряпьем. Странница берет девочку на руки и выносит из избы, чтобы разглядеть на свету.
«Девочка лежала на коленях, закинув назад горячую голову.
- Ох, не узнаю я так-то, - говорила баба. – Поверни-ка ты ее вот этак, на бочок. На правом боку родинка тут у ней.
- Постой, постой, - говорила больная. – Повернись чуточку! вот так! Не бось! Мать тебе пирожка принесла. Не бось, милая! Что, есть, что ли?
- Нету.
- Ну, делать нечего. Видно, не она, - сказала больная и понесла девочку в сени.
Приезжая баба постояла на одном месте, поводила глазами по двору, потом подошла к двери, Сказала: - Ну, прощай! – и вдруг ударилась об землю и зарыдала.
- Дочка ты моя милая! Детища ты моя ненаглядная! – причитала она, лежа на пороге и ухватив обеими руками свою дорожную палочку. Котомка на ней тряслась, платок съехал с головы»[51].
Повестовательной манере В. Слепцова близко письмо другого писателя-народника Александра Ивановича Левитова (1835 – 1877), вошедшего в литературу, в частности, своими рассказами, объединенными в сборник «Степными очерками» (1865). Правда, в них гораздо больше лиризма, чем у Василия Слепцова, отчего очерки Левитова отчасти напоминают тургеневские «Записки охотника». Много в них от фольклора, но при этом отсутствует идеализация крестьянина, присущая писателям из среды дворянской интеллигенции.
Тему пореформенного разорения крестьянства и его пролетаризации Левитов раскрывает прежде всего посредством изображения процесса пробуждения в крестьянской массе индивидуально-личностных качеств как следствия преобразований в социально-экономической жизни страны. Отличительная черта его произведений – стремление показать, как сам крестьянин реагирует на окружающий мир, на приход капиталистического уклада.
Писатель верно ощутил, что реформа 1861 года, наряду с прочим, положила конец патриархальной замкнутости русской деревни. История с неизбежностью толкает крестьян к городской жизни, расширяя их кругозор, понуждает к принятию личных решений относительно определения своего места в обществе. Левитов одним из первых коснулся темы урбанизации крестьянства и связанного с этим роста его общественного сознания.
Вместе с тем Левитов, трезво оценивая существующую действительность, с иронией повествует о слишком активных, без необходимой просветительской работы, попытках приобщить деревню к цивилизации. Этому посвящен, например, рассказ сборника «Степные очерки» - «Газета в селе». Повествование начинается с того, что в крестьянскую телегу, стоящую у почтовой конторы, грузят двухпудовый мешок с газетами для отправки в деревню. Напутствуя возницу, почтамтский сторож, говорит о важности груза, напирая на то, что в этом тюке «весь свет описан», и потому не дай бог его потерять или как-либо повредить.
В дороге мужик рассуждает о содержании тюка и решает, что это, должно быть, опять какие-то правительственные штрафы. Но подлинно узнать о содержании было не у кого и потому «ничего не оставалось делать, как только сидеть и думать, думать и пугаться. Тоска!..»[52]. Неожиданно на дороге ему встречается группа солдат. И один из них убеждает крестьянина, что заключенное в тюке знание обладает потусторонне силой, может выйти наружу и в виде духа навредить мужику. Чтобы этого не произошло, солдат обещает вознице найти корень-оберег, а за это берет полтинник.
Привезенный в деревню тюк попадает к адресату – дьячку, назначенному наставником сельского училища. Вскрыв пакет, дьячок обнаруживает пачку «Столичных ведомостей», которые нужно продать крестьянам. Удовлетворять «всеобщее рвение к просвещению», как говорится в сопроводительном письме, необходимо, в частности, для того, чтобы успешно противостоять Европе, которая «исстари смотрела с завистью на наше пространное отечество… его неисчислимые богатства…»
Дьячок строго следует инструкции, но дело подвигается с трудом из-за несогласия крестьян подвергаться просветительству. Впрочем, они и не понимают, о чем дьячок ведет речь. А на вопрос одной бабы к мужу с просьбой пояснить дело, следует ответ: «баб теперь, все равно как мужиков, будут в солдаты брать».
Доброжелательный в изображении крестьянина писатель прибегает к злой сатире тогда, когда рассказывает о рабской или «мироедческой» психологиях людей. «Положительные» же герои Левитова, которым присущи лучшие народные качества, как правило, так или иначе бесследно гибнут. Сочувствие к ним порождает лирическую интонацию автора.
От эпизодов и сцен к цельным картинам народной жизни разночинская литература переходит лишь начиная с «Подлиповцев» Федора Михайловича Решетникова (1841 – 1871). Сам Решетников пришел в литературу из темного российского захолустья. Примечателен такой эпизод из жизни будущего писателя, имевший для него серьезное значение: будучи четырнадцатилетним подростком, он был отдан под суд за воровство пакетов, журналов и газет с почты, где служил его дядя. О проступке будущего писателя Г.И. Успенский, знавший Решетникова и создавший его первую биографию, сообщает: «Причины этого таскания, по объяснению самого Федора Михайловича, лежали в его впечатлительности к хорошему. «Мне нравились, - говорил он, - форма конверта, гаденькая бумажка, хороший почерк на конверте». Дело закончилось тем, что Решетникова, по малолетству, решили подвергнуть заключению в Соликамский монастырь на три месяца…»[53]
Данный эпизод может быть истолкован как некий знак, свидетельствующий о специфическом пробуждении в низовой массе индивидуального самосознания, которое сам Решетников точно называет «впечатлительностью к хорошему». Потом у него это обернется страстью к писательству. «Мне надо свободу! – напишет он в своем «Дневнике» в 1862 году. – Мне надо запереться для сочинений… Материала у нас много. Наш край (Пермский. – С.Н., В.Ф.) обилен характерами. У нас всякий, кажется, живет в особицу – чиновник, купец, горнорабочий, крестьянин… А сколько тайн из жизни бурлаков неизвестно миру? Отчего это до сих пор никто не описал их?»[54]
Конечно, кугозор Решетникова - писателя достаточно узок, а используемые им художественные средства ограничены. Но на его примере можно видеть зарождение новых отношений между литературой и народом. Так, по свидетельству современника, «Подлиповцы» (1864), посвященные, кстати говоря, Н.А. Некрасову, как ни одно произведение до этого, показали, что «в недрах богоспасаемой России могли существовать дикари, подобно неграм Северо-Американских штатов, обращенные в вьючный скот»[55].
В существовании обитателей глухой пермской деревни Подлипной читатель с полным основанием видел обобщенную картину жизни крестьян в первые годы после реформы. Подлиповцы занимаются не земледелием, которое уже не может их прокормить, а охотой, бортничеством, воровством, а затем и бурлачеством. А бурлачество их влечет, может быть, еще и потому, что уж слишком страшно и тоскливо оставаться в рушащемся крестьянском доме. Перед читателем разворачивается картина отделения крестьян от земли, превращения их в сельских пролетариев. Пролетаризация подлиповцев происходит тем более легко, что их связи с собственностью слишком примитивны, столь велика их нищета.
Решетников был хорошо подготовлен и к изображению жизни бурлаков. Ранее в автобиографической повести «Между людьми» он рассказал историю своего знакомства с бурлаками, с их трудом и жизнью: «С детства мне привелось видеть нужду крестьянскую, но я не знал, отчего эта нужда происходит. Приводилось раз верст семь ехать на барке с бурлаками; я увидал труд тяжелый и не залюбил тех, кто издевается над бурлаками; но я не знал, что это за народ такой. Видел я, как они домой возвращаются, - работа их еще труднее, и опять-таки не знал, отчего они не едут домой, а непременно тянут суденки с хлебом. Но когда мне привелось проплыть с ними триста верст, тогда я заглянул в бурлацкое нутро и узнал их! И мало есть таких людей, которые бы поняли настоящую бедность и причины этой бедности…»[56]
Рассказывая о фактической стороне своего произведения и определяя его цель, писатель сообщал Некрасову: «Таких людей, как подлиповцы, в настоящее время очень много не только в Чердынском уезде Пермской губернии, местности самой глухой и дикой, но и в смежных с нею Вятской, Вологодской и Архангельской. Зная хорошо жизнь этих бедняков, потому что я жил в Чердынском уезде, провел двадцать лет на берегах реки Камы, по которой весной мимо Перми плывут тысячи барок и десятки тысяч бурлаков, я задумал написать бурлацкую жизнь с целью хоть сколько-нибудь помочь этим бедным труженикам»[57].
В своем повествовании Решетников строго фактичен. Не случайно жанр его определен как этнографический очерк. Но от узкого этнографизма и натуралистических зарисовок писатель пытается уходить к серьезным обобщениям. В его изображении само бурлачество выглядит не просто родом занятий, но неизбежной чертой, образом жизни и мировидения русского крестьянина, «съехавшего с корней».
Произведение начинается суровым и безрадостным описанием деревни Подлипной. Со слов самих жителей этих мест, уж как вспахивали они здесь землю - и поздно, и рано, да проку нет. «Вспахаешь, - стужа настанет либо дождь, потом жара: все окоченеет, а там дождь, иней, снег… Пробовали и за хлебушком ходить, да все не в толк: только начинает созревать хлеб – баско! вдруг дожди, заморозки, снег… Поплачешь, погорюешь, да и скосишь травку божью, измелешь и ешь так с горячей водой, либо настоящей мучки смешаешь али коры осиновой, либо липовой наскоблишь…»[58]
В особенности страшна для подлиповца зима. В описании этого времени года в деревне Решетников близок к фольклорно-мифологическим обобщениям Некрасова. Деревня выглядит погостом, укрытым саваном. О предках современных подлиповцев сообщается, что понятия их были такими: есть какой-то бог, а какой, и сами не знали, и только по преданиям своих отцов справляли свои праздники, молились чучелам. О существовании земли они знали только, что земля дает пищу да в землю покойников зарывают. Молились солнцу и луне как богам. Знали, что есть город Чердынь, потому что бывали там, а есть ли что-нибудь за Чердынью – дело темное.
Если сравнить это описание с Обломовкой И.А. Гончарова, то оно выглядит ее полной противоположностью. Оно не только лишено той благостности, с какой Гончаров описывает свой мифологический рай, но похоже на ад. Подлиповцы Решетникова напоминают, скорее, вахлаков Некрасова или глуповцев Щедрина, явившихся в литературе гораздо позднее. Образ деревни производит впечатление некой потусторонности, аукнувшейся уже в ХХ веке в прозе Андрея Платонова – в «Котловане», например.
Центральные персонажи произведения - Сысой Степанович Сысоев (Сысойка) и Гаврило Гаврилыч Пилин (Пила). Первому лет двадцать, второму – сорок. Это – «последние из могикан» вымирающей деревни. Пила – единственный крестьянин, который не лежит безвольно в ожидании смерти, как остальные жители. Он «человек добрый, пробойный и работящий. Он один из подлиповцев понял, что, ничего не делая, жить нельзя; он как-нибудь старался приискать себе работу, сбыть ее, а главное – услужить своим подлиповцам. Назад тому год Пила …утопил ружье в реке, сам простудился и, пролежав два месяца, обеднел до того, что ему с семейством привелось есть кору, а корове и лошадям и вовсе нечего было есть. Оправившись после болезни, Пила насобирал у подлиповцев наделанных кадок, кузовков и лаптей, отправился за больных продавать в селе и городе. …Своим подлиповцам он помогал, чем только мог. Бывало, скажет подлиповцам: «Чево сидите, робь; я буду робить», - и подлиповцы работают с Пилой; нет Пилы, подлиповцы лежат. Скажет подлиповцам: «Смотри, траву надо косить» - здоровые идут косить, а не скажи Пила, что траву надо косить, подлиповцы не догадаются».
Сысойка такой же, как и остальные жители, и его положение от них отличается лишь тем, что Пила ему всячески покровительствует, дружит с ним. Их совместное бытие доходит до того, что родившая на семнадцатом году от Пилы и вскоре похоронившая ребенка его дочь Апроська, теперь беременна от Сысойки.
Животно-растительная жизнь подлиповцев порой переходит в почти иррациональную форму. Вот, например, картина смерти двух малолетних детей – брата и сестры Сысойки. Голодные, спасающиеся от холода дети, залезают в печь, где один ребенок замерзает, а другой гибнет от свалившегося ему на голову камня. Трупы обнаруживает Пила, когда хочет развести в печи огонь.
Еще более фантасмагорична картина погребения умершей от болезни и не подающей признаки жизни Апроськи, которую Сысойка и Гаврило хоронят, как оказывается, еще живую, о чем догадываются, когда слышат из могилы стон и стук. Ночью они идут на кладбище, чтобы вырыть Апроську, поскольку оба сильно ее любят. «…Вот и гроб… Пила и Сысойко молчат и молча идут от могилы в сторону… Но Сысойко оказывается храбрее Пилы; он берет топор, рассекает веревку, берет крышку с гроба… Пила в это время спускается к нему, - ему завидно, что Сысойко один с Апроськой.
-Давай потащим Апроську? – говорит Пила, а сам дрожит.
-Давай. – Пила и Сысойко один за голову, другой за ноги подняли Апроську. Апроська молчит.
-Ишь, стерво!.. – кричал Пила. – Поднимай! – Подняли. Смотрят. Лицо затекло кровью, руки искусаны…
Дрогнули сердца у Пилы и Сысойки; морозом их обдало.
-Померла! – вскричал Сысойко и опустил ноги Апроськи; у пилы тоже опустились руки. Апроська грохнулась на гроб, около ног Пилы и Сысойки.. . Они струсили и убежали из ямы.
-Эк ее бросило! – сказал Пила.
Сысойко молчал. Он опять вошел в яму. Пила подошел к яме и смотрел, что делает Сысойко.
Сысойко схватил Апроську за голову и стал смотреть.
- Апроська?! – закричал он. Апроська молчала. Пила сел на наваленную от могилы землю и свесил ноги.
- Запиши, Апроська!.. – кричал Сысойко. Апроська молчала.
- Убью! – закричал опять Сысойко…»[59]
В этой жутковатой сцене видно, как из кромешной дремучести при прямом столкновении со смертью в героях Решетникова пробивает свет сознания. Не случайно у того и другого возникают мысли о самоубийстве и страх смерти. Они, редкий случай, начинают сопоставлять себя с окружающим миром и противопоставлять себя ему. В основном же, как констатирует Решетников, «чувствовать им нечего: им или баско (Хорошо, приятно. – С.Н., В.Ф.) или худо; …Встал рано, есть хочется – чувство, поробил, есть хочется – чувство, спать хочется – чувство…»
После всех случившихся с ними событий Пила и Сысой отрываются от деревни, ставшей общей могилой крестьянства и отправляются бурлачить. Естественно, что на этом поприще их ожидают утраты, страдания, которым они все еще не могут дать полный отчет. Они «сами не знают, что с ними делается» и идут по дорогам России вместе с другими крестьянами. «У всех была какая-то тяжелая, неопределенная дума, какая-то тоска и радость: всех тяготила мысль о прошедшем, радовало будущее, хотелось скорее получить богачество… Далеко ли им идти, они не знают, а уж коли пошли, пойдут, таки авось будет хорошо, а назад незачем. Будь хоть там богачество, - они назад не пойдут: там они лишились Апроськи, коровы, лошадей, там их избили и измучили…»[60]
Такими же на пути в бурлачество были и попутчики Пилы и Сысоя. Крестьянам, уже немолодым людям, опротивела деревня и они уже третью зиму оставляли свои семьи на произвол судьбы. Они испытали бурлацкую жизнь, в отличие от подлиповцев, и как ни трудно было бурлачество, все же оно казалось им лучше, чем жизнь в своей деревне, где они жили только два месяца в году и скучали о бурлачестве.
В финале Пила и Сысойко умирают. «Родился человек для горе-горьской жизни, весь век тащил на себе это горе, оно и сразило его… Вся жизнь его была в том, что он старался найти себе что-то лучшее…»[61] Обреченность крестьянства, люмпенизация самих крестьян и их сознания отчетливо проявляется и в детях Пилы – Иване и Павле. Они становятся пролетариями и даже видят в этом положительные стороны. При этом Решетникову кажется, что в их мировидении происходит существенный поворот, поскольку в финале произведения они задаются вопросом «А пошто же не все богаты?». И хотя первый их ответ заключается в том, что Бог все так устроил, чувствуется, что в глубине сюжета предполагаются и иные ответы, существо которых пока неведомо и самому автору.
Позднее Федор Решетников создаст три романа из жизни рабочих – «Горнорабочие», «Глумовы» и «Где лучше?». Творческий замысел этих произведений Решетников раскрывает в письме к Некрасову от 2 сентября 1865 года: «Я написал первую часть романа «Горнорабочие»… По моему мнению, этот роман, задуманный еще в Екатеринбурге в 1861 году, будет лучше «Подлиповцев», потому что я проверил ныне сам себя на заводах. В первой части заключаются крепостные горонозаводские и завязка романа; во второй – казенные, в последней – вольные»[62].
Три эти романа объединяет картина народной рабочей жизни пореформенного периода. И картина эта оказывается настолько исторически конкретной и верно схваченной, что, по мнению советских литературоведов, современники видели в ней обобщающее типическое изображение жизни трудовых масс всей России.
В романах писателя большое место занимает описание общего уклада жизни, обстоятельств и обстановки, в которых развертывается действие и от которых целиком зависят судьбы отдельных героев. Но важно, с нашей точки зрения, прежде всего то, что сквозь уклад жизни просвечивало становящееся мировидение низового человека. Другое дело, что это мировидение пока что было слишком прикреплено к предметному миру. Так, в романе «Горнорабочие» (1866), в котором изображаются еще крепостные порядки горнозаводского Урала, говорится о семье рабочего Токменцова. Одного из его сыновей засекли на руднике до смерти, другого тяжело наказали, дочь была изнасилована заводским полицейским. В конце концов и сам отец был замучен на работе. Собственно, все эти ужасы и есть предметное выражение мироощущения низового человека, каким он предстает у Решетникова.
Роман «Где лучше?» (1868) продолжает тему пролетаризации крестьянства. Писатель открыл, как полагал Щедрин, ту драму в литературе, «в которой фаталистически вращается существование русского простолюдина» и которая составляет «действительный стимул всех его движений и действий». «Эта драма особенная и называется борьбою за существование», «он первый поставил эту задачу правильным образом… начиная с «Подлиповцев», все дальнейшие его произведения более и более стремятся сделать эту постановку совершенно ясною и общедоступною. Решетников первый показал, что русская простонародная жизнь дает достаточно материала для романа…»[63] Интересно, что однообразие характеров у Решетникова Щедрин объяснял реальным состоянием народной массы, которая на данном, переходном этапе, еще не может выделять резко очерченные индивидуальности.
* * *
Завершая рассмотрение попыток Н.А. Некрасова, В.А. Слепцова, А.И. Левитова и Ф.М. Решетникова воспроизвести (выстроить) в своем творчестве русское мировоззрение, низовое – прежде всего, нужно отметить следующее. На наш взгляд, в решении этой задачи мы наблюдаем не только некоторый откат назад в сравнении с теми вершинами, которые были достигнуты в произведениях И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, но и выбор иного направления поисков. И причина здесь не только в том, что Тургенев, Гончаров или Толстой имеют дело с несравненно более развитыми в интеллектуальном или нравственном отношении персонажами. Это не всегда так. Ведь в известной степени герои «Записок охотника» - те же Бирюк, Касьян или Ермолай - могут быть сравнимы, например, с решетниковским Пилой. Однако сколь же более глубок сопровождающий этих героев авторский анализ, сколь более значимы формулируемые им наблюдения, вопросы или обобщения.
Конечно, в отношении творчества Некрасова мы должны делать и делаем известную поправку на стихотворное изложение, которое далеко не всегда располагает и дает автору возможность для углубленных размышлений или постановки мировоззренческих вопросов. Впрочем, эта художественная форма, как известно, не мешала Пушкину или Лермонтову, и потому этот довод может иметь значение лишь до известной степени. Другое дело, что поскольку в поэзии Некрасова мы не видим попыток возвыситься до серьезных обобщений, сам по себе этот факт нуждается в объяснении.
Кроме того, как нам представляется, и в творчестве Некрасова, и у рассмотренных нами писателей народнической ориентации уже предчувствуется или даже явно начинает формулироваться революционный способ решения реальной социальной проблемы. И искупление грехов Кудеяра-атамана в заслугу за убийство помещика, и интенции Гриши Добросклонова, и другие образы в поэзии Некрасова, и симптоматические комментарии, а позднее и к революционному насилию в критических работах и, далее, в знаменитом романе Н.Г. Чернышевского - все это было отходом от становившейся традиционной для русской классики ориентации на внутреннее изменение человека, на поиск того, что Толстой называл «открыванием дверей внутрь», на тургеневское «постепенство» малых дел. Наступали новые времена, а с ними приходили и «новые песни».
[1] Григорьев А.А. Стихотворения Н. Некрасова. В кн.: «Библиотека русской критики. Критика 60-х годов ХIХ века». М., Астрель, 2003, сс. 192 – 193.
[2] Бахтин М.М. Цит. соч., с. 231.
[3] Там же, сс. 226 – 227.
[4] Некрасов Н. Стихотворения. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1971. БВЛ. Серия вторая. Т. 98. с. 177 - 178.
[5] Там же, сс. 178 - 179.
[6] Там же, с. 180.
[7] Чуковский Корней. Мастерство Некрасова. М., ГИХЛ, 1955, с. 362.
[8] Некрасов Н. Цит. соч., с. 58.
[9] Там же, с. 61.
[10] Там же, с. 263.
[11] Там же, с. 185.
[12] Там же, с. 194.
[13] Там же, с. 200.
[14] Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем в 15 томах. Л., Наука, т. 5, с. 87.
[15] Там же, с. 89.
[16] Там же, с. 91.
[17] Там же, сс. 93 – 94.
[18] Там же, сс. 104 – 105.
[19] Там же, с. 118.
[20] Там же, с. 117.
[21] Там же, с. 118.
[22] Некрасов Н. Стихотворения. Поэмы. – М.: Художественная литература, 1971. БВЛ. Серия вторая. Т. 98., с. 215.
[23] Там же, с. 251.
[24] Там же, с. 253.
[25] Там же, с. 279.
[26] Там же, с. 5- 6.
[27] Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Л., Наука, 1982, т.5, сс. 46 – 47.
[28] Там же, с. 63.
[29] Там же, с. 66.
[30] Там же, с. 121.
[31] Там же.
[32] Там же, с. 122.
[33] Там же, с. 55.
[34] Ранее мы уже обращались к творчеству А.Ф. Писемского, к его «Очеркам крестьянского быта», в которых формулировался главный, волновавший писателя вопрос «Что за народ эти мужики?». И, что примечательно, чем звучнее и чаще этот вопрос произносился, тем менее удовлетворительными оказывались даваемые на него ответы. Но при этом яснее становилось одно: мир крестьянина сдвинулся с места, а персонажи, составлявшие его прежде, теперь превращаются в новые, ранее невиданные формы, вроде питерщика Климентия, уставщика Петрухи и др.
[35] Там же, с. 95.
[36] Там же, с. 195.
[37] Живые страницы. Н.А. Некрасов в воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах. – М., 1974, с. 8.
[38] Там же, с. 11.
[39] Некрасов Н.А. Полное собрание сочинений и писем в пятнадцати томах. Л., Наука, 1982, т. 5, с. 233.
[40] Там же, с. 235.
[41] Живые страницы. Н.А. Некрасов в воспоминаниях, письмах, дневниках, автобиографических произведениях и документах. – М., 1974, сс. 122 - 127.
[42] Там же.
[43] Там же.
[44] История русской литературы в трех томах. Т. 3. – М.: Наука, 1964, с. 48.
[45] Лотман Ю.М. Реализм русской литературы 60-х годов ХIХ века. Л., «Наука»,1974, с.109.
[46] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков) Полное собрание сочинений. М., Художественнаялитература, 1937, т. 8, с. 65-66.
[47] Чуковский Корней. Люди и книги. М., ГИХЛ, 1958, с. 177.
[48] Горький М. Собр. соч. в 30 тт. М.: Гослитиздат, 1949-1956, т. 24, с.221.
[49] Чуковский Корней. Люди и книги, с. 189
[50] Там же, с. 202-203.
[51] Слепцов В.А. Трудное время. М., Современник, 1986, с. 302.
[52] Левитов А.И. Сочинения. М., Художественная литература, 1977, с. 320.
[53] Цит. по кн.: Решетников Ф. М. Избр. произведения в двух томах. Т. 1. М., ГИХЛ, 1956, с.У111.
[54] Там же, с. Х.
[55] История русской литературы, т. 3, с. 248.
[56] Решетников Ф. Между людьми. – М.: Современник, 1985, с. 250.
[57] Решетников Ф. М. Цит. соч., т.1, с. ХУ.
[58] Решетников Ф. Между людьми, с. 16 - 17.
[59] Там же, с. 45-46.
[60] Там же, с. 65, 66.
[61] Там же.
[62] Решетников Ф. М. Избр. произв., т. 1, с. ХХ1У.
[63] Щедрин Н. (М. Е. Салтыков) Полное собрание сочинений. М., Художественная литература, 1937, с. 352.
|
|||||
|
  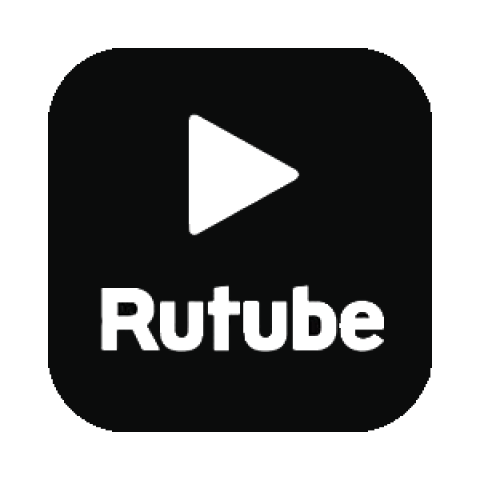  |
|
 назад
назад


