В ПРИСУТСТВИЕ УРОЖАЯ
ПОСЕВ
Многие из ныне живущих уже не помнят, а многие, наверное, никогда и не видели, как сеют руками. И только иногда, старые кадры кинохроники, доносят до нас образ бородатого крестьянина, шагающего по вспаханному полю с коробом семян и руками отдающего их земле. Семя, согретое теплом человеческих рук, падает на землю с тем, чтобы прорасти, выжить и дать новое семя. Нынешняя техника в виде металлических сеялок, оставляет семя без этого тепла. Кто знает, может быть, поэтому мы навсегда лишены вкуса подлинного, душистого хлеба. А ведь как точно и верно язык схватывает и удерживает в себе это внутреннее родство обоих: сеятеля и семени.
Именно тепло рук сеятеля, а через них – его души, ставшее, непостижимым нам образом, причастным семени, дает ему особую силу, сберегая к прорастанию. Подлинному прорастанию. О чем думает в это время сеятель? Наверное, о своих насущных делах. О том, что хорошо бы успеть к сроку, что в этом году ранняя весна и, поэтому, не прихватило бы молодые всходы заморозками, о том, как сохранить семя в земле и вовремя пробороновать, т. е. в буквальном смысле «оборонить», защитить семя от его недругов –грызунов, насекомых, птиц, и Бог знает кого еще, готового вот так, не вложив души, удовлетворить свои потребности – растащить и насытиться. Дума сеятеля, его тревога и забота, конечно же, передаются и семени, делая его утвержденным в своем стремлении выжить. И уж конечно, сеятель не занят вопросом о том, как он это делает. Этот типично цивилизованный вопрос, рожденный самолюбованием городского обывателя, его эгоцентризмом, которого интересует, прежде всего, не «что», а его «как»: «Как смотрится дело со стороны?», «Как думают о его деле окружающие?», «Как воспримут результаты дела в будущем?» и, наконец, «Как следует пахать и сеять самому крестьянину?» Неудивительно, поэтому, что машинное сельское хозяйство есть продукт города, а не деревни. Крестьянин, вовлеченный в годовой космический цикл, никогда бы не смог его разомкнуть. Он. пожалуй, единственный кто хранит еще и по сей день в себе то незамутненное единство с землей, которое с современных ученых кафедр называют мировоззрением «наивной античности». Он хранит само дело, само «что» этого бытия, совершенно не задаваясь вопросом о его «как».
47
Любопытствующий, а значит лишенный хоть какой-то глубины взгляд, страдающий в уединении и, наоборот, оживающий в диа- и полилогическом шуме, не увидит в образе сеятеля для себя ничего приметного. Напротив, дело сеятеля, его образ приняли в сознании этого обывателя уничижительную форму дикаря, закрепившись в языке двумя высокомерными эпитетами: «деревни» и «деревенщины». Это и понятно. Культура как возделывание, как труд и дело пахаря, сеятеля и жнеца уходит в прошлое. Вместо нее нам уже повсеместно доброхотливые «любопытатели» предлагают искусно сработанную копию: культуру городскую. Последняя, хотя исторически и выходит из подлинной культуры, уже совершенно лишена ее космической цельности и цикличности. В ней вопрос «что» не имеет бытийного значения. Если спросить сегодня у горожанина, что наиболее полно выражает его представление о «культуре» или, другими словами, что могло бы рассматриваться им как презентативное замещение культуры, то он бы ответил честно, если бы сказал: театр. Но почему театр, спектакль, т. е. представление или совсем по современному – шоу – стали бытийными доминантами современного горожанина?
Отстраненному взгляду может показаться, что все это неинтересно. Но вглядимся внимательнее в существо происходящего. Почему любая незначительная вещь, явление или событие становятся значительными только потому, что через дефис к ним прибавляется термин «шоу». Только ли здесь дело в моде и заимствовании русским языком «Красивого» английского термина или, может быть, наоборот, сам русский язык стыдливо – через использование чужого термина, как через переодевание в чужое платье – пытается высказать то, что сам по себе и с самим собой, в силу своей стыдливости, никогда бы не решился сделать. Чужие термины нейтральны к совести языка. Ведь можно еще понять, что такое «новогоднее шоу» или « шоу по случаю Дня города», но как понять, что такое «рождественское шоу» или «шоу по случаю Дня Победы»? Можно стоять в храме и молиться образу Пресвятой Богородицы. К тому же и иконописец, «писавший» этот образ, имел на то особую благодать, и само изображение освящено. Но можно ли емумолиться, глядя на экран телевизора с «рождественским шоу»? Нам говорят, что благодаря технике миллионы людей становятся участниками рождественской службы. Но свидетелями чего они становятся в действительности? Зрелища! Это и есть то русское слово, которое стыдливо прячется за нейтральным английским термином. Ведь если мы не находимся в храме, если мы не общаемся непосредственно со всем освященным и священным, то мы имеем дело с их искусственными заменителями. Это уже не реальная и живая служба, а представление службы. Ее шоу. А представление – это самое аполлоническое изобретение европейского сознания. Говоря привычным языком, служба и таинство превращаются в театр. При таком взгляде на бытие само дело уходит на задний план и как таковое не допускается к присутствию. Наоборот, в театре само представление оказывается делом. Подлинно ли такое дело? А если нет, то в чем его неподлинность? Может быть, в том, что в театре семя не родит семени, так как в нем нет самого семени, т. е. нет его неточного начала – подлинной порождающей жизни. Там нет самого «что», а есть только ее «как» – игра. Последняя, в своей сущности, оказывается ничем иным, как искусственной моделью подлинных жизненных событий. Неудивительно, поэтому, что в европейской истории всплески моделирования физического мира совпадают по времени со всплесками моделирования мира человеческого. И европейский театр, со времени его зарождения в древней Греции, является тому красноречивым подтверждением. Невозможно, чтобы празднества в культе Диониса для верующего в доэсхиловскую эпоху или евхаристия для христианина были только моделью реальной религиозной
48
жизни. Наоборот, исступление в первом случае и пресуществление во втором – это и есть сама жизнь. Наиреальнейшая реальность. Но, что мы видим в театре? Его первейшим условием является как раз требование того, что действие на сцене это, во-первых, не сама жизнь, а лишь типичная жизнь, т.е. модель некоторых наблюдаемых сторон жизни; во-вторых, что зритель – это зритель и только зритель, отстраненный барьером даже от «моделирования жизни на сцене». Представление, этот «меч Аполлона», рассек цельную ткань жизни надвое – представляющего и представляемое. Это действительно так. Те процессы, которые имеют место на модельной сцене физического мира столь же независимы от зрителя, сколь независимы процессы, которые имеют место на сцене театральной. Двадцатый век весьма поучителен в этом отношении. Почти одновременно моделирование и в физике и в театре претерпевает изменение в одном и том же направлении. И в том и в другом случае пытаются наблюдателя, т. е. зрителя, опять же искусственно, сделать участником. Антропный принцип в науке, делающий наблюдателя «активным участником» (либо креативно, как у Дж. Уилера, либо телеологически, как у Б. Картера), вселенского спектакля или «метод участия» М. Джонса, Т. Гатри и Н. П. Охлопкова, делающий зрителя участником театрального спектакля – суть два однонаправленных процесса. Все это есть попытки вернуть жизнь тому, что ею уже не является. По существу пытаются заменить одно представление – уже окончательно, утратившее свою адекватность – на другое, более «совершенное», в котором искусственная модель целостности якобы максимально приближена к оригиналу. Но в данном случае, и наука и театр как рожденные одним и тем же – представлением – пытаются свести человека и мир как две взаимодополняющие части, но именно только части. Однако сумма частей, некогда разрубленного «мечом Аполлона» на них цельного мира, не обладает источной неаддитивностью. Само возрождение цельной жизни – искусственно.
Мы могли бы спросить: какое отношение эти рассуждения о театре и науке имеют к изначальной теме о сеятеле и семени? Если бы этот вопрос был задан серьезно, то можно было бы с полной уверенностью закончить и начатую тему, и размышления о науке и театре. Помочь нам в этой ситуации может только попытка их соединения, т. е. указание на наличие такого отношения. Ведь было бы наивно полагать, что те семена – как науки, так и искусства, в том условном смысле, в котором театр относится к искусству, – не принесут спустя некоторое время всходов и урожая. Но что это будет за урожай? Мы сегодня можем только догадываться.
Удовлетворительно ответить на поставленный выше вопрос о существовании такого «отношения» мы сможем только тогда, когда внимательнее вглядимся в дело сеятеля. Разве не также точно делает свое дело любой труженик на любой ниве, которая готова воспринять семя, дать ему прорасти и родить новое? Разве не также точно засеивается поле науки или философии? Разве не также точно думает думу податель теории, которой собственно еще и нет, а есть только ее семя? Из него впоследствии может развиться и вырасти то, что принято называть «зрелой теорией». Но сейчас он, как тот же крестьянин-сеятель, отдает это семя земле, отпуская его к собственной самостоятельной жизни. Его волнения и вопросы те же: хорошо ли продуманы и сформулированы основания; нет ли явных противоречий с уже существующими фактами и взглядами; хорошо ли пойдет семя в рост; как примет семя почва; наконец, как защитить это беспомощное пока существо от его многочисленных недругов, готовых вот так, не вложив души, растащить и насытиться? С этим семенем он связывает свою надежду. Ему же отдает всю энергию своей души. Он тоже сеятель. Сейчас его тоже заботит только «что» его дела. Ему, сеятелю
49
и подателю семени-мысли, сейчас не до «как». Например, А.А. Фридман писал, что когда появились первые решения уравнений Вселенной с эволююцией, никто и предположить не мог, какое у них будущее. Все были поглощены одним – выжить. Потом, по прошествии времени, наблюдатели разберутся с мучительным «как». Им не сеять, не боронить, не жать! Ни разу в жизни не бросив в почву ни одного семени, они тем не менее подробно post factum опишут и расскажут как сделал это сеятель и как было бы нужно это сделать. Укажут на ошибки: вот там оступился, тут слишком густо, а здесь – необъяснимая пустота. Расскажут и покажут. Даже проиграют «по ролям», как в театре Воспроизведут процесс посева как представление. В конце концов окажется, что уж лучше бы они сами посеяли, настолько это ясно и просто после ими рассказанного и представленного. И действительно, засеяли бы. Да вот беда: нет семени, а если и есть, то бесплодное. Мы легко узнаем их повсюду – это комментаторы. Что же может поддержать сеятеля в это нелегкое время? Только одно – надежда. Но и последняя сама по себе зыбка, если лишена опоры – буквально того, «опираясь на что, надеяться». Эта единственная опора – вера. Само это слово – одновременно суровое и лаконичное – есть камень в пустоте, есть то единственное место в ней, где нога сеятеля собственно и становится ногой, ибо ступает, а не парит. Но даже вера, хотя и является твердью, но, скорее, безучастной. Сама эта вера должна быть дана той силой любви – любви к своему семени, которая одна только и позволяет непостижимым нам образом выстоять сеятелю и семени в это нелегкое время. Выстоять даже тогда, когда все кругом уверяют, что «все это надуманная чепуха», что «это игра воображения», что «с этим лучше не связываться», что «такое семя не родит», наконец, выстоять даже тогда, когда под ногой сеятеля – в минуты особого отчаяния – все-таки начинает колебаться камень веры. Что же ему остается? Остается одна эта странная необъяснимая сила, непонятно откуда берущаяся и непонятно за что поддерживающая. Сила той любви, которая отлагается всяким сеятелем его семени. Ведь с любовью посаженное семя обязательно дает всходы.
ВСХОДЫ
Дело сеятеля уже проторено. Отдав семя почве, он сам с этого момента отдается во власть судьбы. Далее, путь семени к прорастанию лежит между податливостью почвы и его собственной энергией к ее преодолению для выхода в мир. Отныне сеятель и почва вступают в единоборство за будущий урожай. Каждый из них будет стремиться обладать тем, что вырастет из семени. Почва, принявшая семя в свое лоно, вскормившая его идавшая корням опору, тоже ждет своего часа, когда нечаянно упавшее зерно или подкошенный налетевшим вихрем стебель, не устояв, рухнет – она поглотит их и растворит, вернув себе, в конечном счете то, что когда-то дала. Платон метко назвал ее восприемницей и хаосом. Но трагедия в том, что почва «не знает семени как семени». Она «знает» только то, что имеет сама и что способна дать – его составляющие: питательные соки и вещества. А поэтому, стремясь поглотить семя, она просто-напросто по своему «неразумию» пытается поглотить и то, чего не давала и дать никогда не могла. Семя в этом случае и сравнить-то можно только с платоновским эйдосом. Благодаря эйдосу семя как семя неподвластно почве. Так что же она стремится поглотить? Семенную плоть. Только ту его «часть», которая составляется соками и веществами. Ведь семя не проросшее– остается непроявленным. То же семя, которое проросло и выжило, всходит над почвой. Чем выше
50
оно поднимается над ней, тем больше солнечного света и силы пребудет в его росте к семени новому. И только в таком виде оно открывается сеятелю. С этого момента забота сеятеля нудится одним – устоять в поединке с почвой, не дать ей поглотить и будущий урожай и побеги еще не рожденных семян. Ведь предвкушая трапезу, почва, призывает, словно на пир, все ненастья и беды: каждый там насытится вволю. Замерзнут ли всходы, повалит ли ветром, найдет ли мор иль погубит тля – все достанется почве.
Раз на раз ведь не приходится. Бывает, что вся весна холодная. И брошенное в землю семя подолгу остается непророщенным. Кажется, что пришла беда. Первые всходы, вместо положенного срока появляются намного позже. Почва не отпускает семя к свету. А без света... Действительно, что же с ним происходит, если оно дольше положенного срока пребывает под спудом? Любопытствующему взгляду может показаться, что все погибло: если так долго нет всходов, то не будет и урожая, ибо хлеб не успеет созреть к положенному сроку. Но нет. Та сила, которая дана семени, хранит его и в темноте этой почвы. Причем, не только хранит, но под ее промерзшей корой понуждает бороться за жизнь с возрастающим напором. Но в это не верится. Всходов же нет! Как усмотреть эту невидимую обывательскому взгляду неочевидную истину? Ведь очевидность здесь не помощник. Зрение чувственное и даже умозрение здесь бессильны – перед сеятелем голое поле. Необходимо особое зрение веры. Только оно нам укажет, что та сила, которая должна была бы пойти на продвижение ростка к свету, словно бы осознав невозможность движения в одном направлении, меняет путь ее приложения. И теперь – о, чудо – из одного семени, вместо одного побега, появляется несколько. Рано или поздно почва все равно оттает: то ли кончится положенный промерзанию срок, то ли солнце, растопив теплом ее поверхностный заледеневший слой, вернет свободу прорастанию, то ли теплые дожди размочат упорствующее затвердение почвы и откроют путь к долгожданному и благополучному всходу. Это неизбежно и все равно свершится. И что же мы видим? Вместо ожидаемого одного побега, появляется целый куст. Куст побегов – это ответ жизнеутверждающего эйдоса семени, упорствующему в своем отвердении поверхностному слою почвы.
Укрепленный зрением веры сеятель неторопливо подходит к своему наделу. Поднимая к глазам натруженную руку, спокойно принимает нечаянный дар судьбы. Он знает: та сила, которая по неразумию препятствовала появлению всходов, только приумножила их стремление выжить, Теперь уже многими путями. Как говорят в таких случаях крестьяне, хлеб закустился. То, что, казалось, ведет к гибели, привело к обратному. Если же хлеб кустится, быть богатому урожаю.
Глядя на поднявшиеся всходы, сеятель впервые, после долгих тревог, переживает на сердце поднимающееся из самых его глубин чувство радости и неподдельной гордости. Взошли! Его семена, его надежды, его внутренние муки и сомнения наконец-то получили осязаемое вознаграждение. Есть ли вообще в этом мире хоть что-нибудь, что может, пусть отдаленно, сравниться с этим состоянием сеятеля? Вряд ли. Эти всходы запоминаются навсегда. Потом, будет еще много радостей и забот, будет, наверняка, и праздник урожая. Но сейчас, сейчас всего этого еще нет. Есть только всходы! Но такие близкие и дорогие, ради которых можно отдать многое и даже все. Можно было бы сказать без натяжек, что первые всходы это второе рождение сеятеля.
Умиротворение, которое испытывает в этот момент податель семени, оставляет до бремени в стороне и его тяжбу с почвой, и защиту от расхитителей, и даже саму заботу о всходах. Он впервые явственно видит, как его семена, наделенные его душевной силой,
51
возросли к бытию из небытия. Он, может быть, впервые ясно осознает, какой он обладает силой, доселе пребывавшей от него в сокрытии. Тем самым он впервые, как таковой, приходит к самому себе. В этом только смысле и можно говорить о его втором рождении. Между ним теперешним и им же прежним – расстояние огромного размера, как между пытающимся родить и уже родившим.
Он, сеятель, сейчас меньше всего думает о том, «как» они проросли. Да и если бы знать это «как», то многого можно было бы избежать. Но ведь каждый раз приступая к севу, подлинный сеятель совершает свое дело впервые. Каждый раз посеянное семя будет прорастать своей, доселе нетореной дорогой. Каждый раз семя встречает новая почва, а побеги клонят к земле новые ветры. Поэтому, невозможно к живому – а возделывание земли и взрашивание сеятелем хлеба из семени есть жизнесозидающее дело – применить вопрос «как». В живущем нет и не может быть «как» именно в силу его уникальности и необратимости. Сам этот вопрос «как», предполагает регулярность и повторяемость. Но есть ли она в подлинной жизни и подлинном возделывании? Нет. Всякое подлинное возделывание уникально.
Говорят, что регулярность и повторяемость дает точность знания и, следовательно, искомое «как». Но даже, если обратиться к тем областям, где, казалось бы, достигнута «окончательная» точность, например, к науке, то и там мы обнаружим странное совпадение. Регулярность, повторяемость и обратимость все больше и больше уступают место уникальности и необратимости. Постепенно, с трудом, приходит осознание того, что и в этих областях, чем глубже проникновение в существо проблемы устройства мира, тем более там властвуют необратимые и уникальные процессы. Сам этот мир изменяется необратимо и поэтому требует для описания себя соответствующие языки. Мир вес явственнее нам говорит: я – живой организм. Но как узнать, что дело сеятеля животворящее? Не будет ли подтверждением и одновременно обоснованием этого то, что произрастет из семени? Ведь, если семя несет в себе жизнь, то последняя должна себя воспроизвести. Другими словами, семя должно родить семя. Тогда дело сеятеля – принять эти роды. Поэтому-то, его повивальное искусство должно раскрыться в другом его образе – образе жнеца.
ЖАТВА
Прошло время тревог. Исчезла давно и та сочно-зеленоватая краска, которая отличает молодость первых побегов. Во всем облике созревающего хлеба царствуют теперь желтовато-золотистые оттенки. Прошла и былая их стройность. Ведь когда-то они, еще движимые стремлением выжить, набирали рост, стремясь кто выше, а кто глубже, ухватить больше света, больше влаги, больше силы. Наконец, рост достиг своего предела. Удел, положенный семени в его раскрытии, уже очерчен данной ему мерой. Еще недавно высившиеся, словно остроконечные иглы, колосья созревающего хлеба начинают клониться книзу. В этом поклоне, словно в повороте головы, заключена их благодарная свершенность. Они разворачиваются к тому, из чего сами когда-то вышли – к семени. Пора возвращаться к истоку!
Осторожно ступая по краю надела, боясь нечаянно задеть созревающий хлеб, сеятель теперь отчетливо понимает, что и его дело близится к завершению. Его сила, вложенная в семя, принесла в положенный срок всю доступную полноту ее раскрытия. В этой полноте –
52
обоснованная исчерпанность проявления силы, дающая ее конкретность. Ограниченный надел не может вместить всей ее полноты. Но это и не нужно. Замечатьно как раз то, что народилось больше чем ожидалось. Избыточность свидетельствует о богатстве Сеятель радуется созреванию. Он молча внимает шелесту клонящихся книзу колосьев. Раскачиваясь из стороны в сторону, они шепотом передают друг другу сокровенные звуки. Ветер, подхватывая сказанное, доносит его до сеятеля с самых дальних рубежей надела. О чем этот сказ? Скорее всего о том, что хлеб тоже радуется своему созреванию, что избыток силы наполняет окружающий мир так же точно, как наполняет его пронзительная чистота и яркость запахов в летний грозовой день, что благодарная свершенность готова отдать себя в руки жнеца. «Прийми нас» – доносит ветер. Аромат избытка во всем: в воздухе, в цветах, в звуках. Все наполнено полнотой.
Сказанное одним только шелестом созревающего хлеба поведает сеятелю гораздо больше, чем тысячи других звуков, но собранных в слова, которые проскальзывают мимо, ничего не оставляя взамен себя. Слова убивают звучание мира! Они ограничивают его полноту смыслами. Здесь не так. Здесь сказывание мира и сам сеятель суть одно. Внимая звукам полноты созревания, сеятель вступает в общение, которое выше и одновременно глубже произнесенных слов, в общение, где нет самого «в». Этому шелесту еще «наивные грекп» доверяли в Додоне больше, чем простым человеческим речам. Тому, кто не понимает этого «бессловесного языка» и не доверяет этим «безгласно изрекаемым словам», невозможно объяснить, что это. Ведь даже в обыденном мире для постороннего уха, говорящие на непонятном языке – всего лишь «тараторят», и в этом смысле, просто издают шум – «шелестят». Но разве они действительно только шумят? Прислушаемся и мы вместе с подателем семени к тому, что доносится отовсюду!
Ветер доносит до сеятеля песню, рожденную широтой простора, которая, отражаясь о водяную гладь реки и стенку леса, окаймляющего надел, течет словно сама река по широкому полю. Эта песня тоже рождена созревающим хлебом. Прикасаясь к миру, полнящемуся своей полнотой, человек до поры сдерживает себя заботой и памятью. Но когда полнота переполняет его выше всякой меры, он уже не в силах подчинять себя оковам разума. Душа вырывается на свет криком – ведь так иногда хочется крикнуть человеку в этом просторе! Зачем? А человеческое тело буквально разрывается песней. В ее мелодии и созвучиях, а совсем не в словах и их смыслах, вырывается наружу принесенный ветром наказ: дай полноте звучание. И чем полнее эта полнота, тем гуще звучание и крепче голос певца. Хочется петь! Это не только состояние души подателя семени, это еще и пьянящее чувство единения с этой полнотой бытия. Созревание всегда пьянит.
Ясно ведь, что именно такое пение, рожденное органическим единством с миром и настоятельным требованием выразить его полноту, было в древности названо связью с ним. Песня сеятеля и жнеца рождена его космической близостью с миром. Его делом. В известном смысле, поет даже не сам человек, а дело, вбирающее в себя и широту простора, и заботу о семени и многое многое другое, без чего бы оно никогда не состоялось. Отнимите у сеятеля и жнеца это дело, отнимите заботу и любовь к семени, отнимите, наконец, полноту созревания и спросите: а сможет ли он петь? Ведь если нет единения с полнотой, то что же будет разрывать его изнутри, рваться наружу? Мы обнаружим, что это уже будет не естественный безмерный прорыв полноты в голосе певца, а лишь его намеренное искусственное пение. Исчезнувшая полнота оборачивается смертью поданного. Теперь уже не сам мир поет в человеке, а сам человек поет в мире. Теперь уже не душа, полнящаяся переживаниями, разрывает оковы разума, а наоборот, разум искусственно
53
принуждает закованную душу доставлять ему осмысленные наслаждения – устраивать представление полноты. Так собственно из древних песнопений и родился театр как средоточие представляющего разума. Был найден искусственный заменитель, способный в любое время года разыграть представление урожая и искусственно стимулировать полноту пения.
Щедрая ясность простоты выводит нас из оцепенения очевидностью. Под ее покровом мы обнаруживаем нечто иное. Что? Что же мы видим в театре? Его первым условием является как раз требование того, что зритель дважды лишен причастия жизни. Поэтому и «переживание полноты», играемое в театре, оказывается неподлинным, так как рождено не самой подлинной жизнью, а только ее имитацией – актерской игрой «в жизнь». Театральное развлечение для души – то же, что театральное развлечение для тела. Присутствие игрового театра в обществе оказывается барометром его жизни: чем выше значимость ее модельного, а стало быть, искусственного представления, тем, соответственно, подавленнее его подлинная духовная жизнь и наоборот. На эту бездуховную и антирелигиозную сущность театра обращает внимание и В. В. Розанов, когда говорит что «Апостол Павел вовсе не предлагал афинянам; "Поверуйте во Христа сверх того, что ходите на олимпийские игры". В минуту отдыха, ну хоть какого-нибудь отдыха, суточного, часового, он все же не пошел в греческий театр посмотреть трагедию. Тонким чувством психических навыков мы знаем твердо, что об этом не только не рассказано в "Деяниях", но этого и не было. Павел в театре – невозможное зрелище! Одобряющий игру актеров – какофония! Разрушение всего христианства!!! Да, Павел трудился, ел, обонял, ходил, был в материальных условиях жизни; но он глубоко из них вышел, ибо ничего более не любил в них, ничем не любовался...». Но мы вынуждены признать, что Розанов оказывается непоследовательным. Называя весь театр «любованием», что в целом верно, он тем не менее не хочет различать театр драматический и театр оперно-пластический. Однако он сам признает, что «грусть выше радости, идеальнее. Трагедия выше комедии... Таким образом, одна из великих загадок мира заключается в том, что страдание идеальнее, эстетичнее счастья, грустнее, величественнее». Но ведь первые древнегреческие представления в театре и замысливались первоначально как трагедии, как «песнь священных козлов» бога Диониса, бога действительной жизни, ее трагичности и здесь – неразрешимости. Нынешняя опера и балет – это только далекие отголоски первых трагедий, которые сами, стараниями Эсхила, Эврипида и Софокла, стали только отголосками реальных, живых религиозных празднеств и мистерий. Вся атрибутика первых театров была подчинена божественному – религиозному – содержанию спектаклей:
теологейон, керауноскопейон, механэ: вспомним, «deus ex machina». Боги в первых греческих трагедиях были главными действующими лицами. Театр и рождался как представление «Божественной трагедии».
А правомерно ли так оценивать «всякий театр»? В абсолютной шкале ценностей – да! Однако для балета и оперы необходимо сделать исключение, так как они не являются «драматическим театром» в собственном смысле этого слова. Они еще сохранили в себе, пусть уже не содержательно, но только формально, девственную подлинность жизни – танец и пение. В опере сама личная игра актера, его умение искусно подражать жизни мимикой, жестами, речью уходят даже не на второй, а на последний план. Игра в опере – не существенна. Существенна, наоборот, способность певца выразить голосом то, что в действительной жизни осуществляется непроизвольно – пение души. Здесь все смыслы – не значимы. Мы можем слушать оперу и не смотря на сцену, так же как мы слушаем
54
пение убирающих хлеб, не видя их за работой. Певец, в отличие от драматического актера, становится единым органом – «инструментом», голосом выражающим состояние души представляемого им героя, поющей посредством «хоревта». Равно как и в балете: не игра, т.е. личное представление, оказывается существенной стороной а, наоборот, весь организм танцора – его душа и тело – становятся органом, «инструментом» пластическою выражения состояния души представляемого им героя в танце. Пение и танец – вот, что мы слышим и видим. Конечно, в современной опере и современном балете присутствие представления неотвратимо, как впрочем, и во всем, что сопровождает современного человека. Однако они в силу своей изначальной укорененности в подлинном – мистериальных танцах и пениях, рожденных полнотой бытия, – хранят в себе эту незамутненную девственность. Ту девственность, посреди которой и танец, и пение еще не были «знаками» и «символами» чего-то другого, но живым действом, живым продолжением полноты мира. В известном смысле, опера и балет сохранили в себе подлинность жизни в той мере, в которой они сохранили отпечаток первоначальной религиозности, религиозности античной. Именно эта первоначальная религиозность меньше всего видна современному цивилизованному взору, видящему в балете и опере только «высокохудожественное представление» и «утонченное эстетическое наслаждение», т. е. искусственную гедонистическую модель реальной жизни. Что принесет с собой такое понимание сущности искусства?
Еще раз внимательнее вглядимся в тот урожай, который созревает на наших глазах и который предстоит собирать нововременному человеку. Его плоды, отягощенные собственной зрелостью, принесут ведь новые семена. Эти семена он как раз и хотел бы заронить в историческую почву уже сейчас, чтобы в обозримом будущем зрел новый урожай. Его ожидание столь очевидно, что бессмысленно взывать к разуму или сердцу. Уже ткется полотно будущего бытия, и снующий туда-сюда «энергичный человек» глубоко убежден, что это он создатель полотна, совсем не подозревая, что он всего лишь челнок, и что чьи-то руки, теребя его, неумолимо, нить за нитью, приводят рисунок этого мира из небытия в бытие. Он все еще верит в то, что именно осознание пагубности той самозаконодательной программы, которая была им положена в основание всей новоевропейской истории, выведет из кризиса. В чем же была ложность сделанного им когда-то рационального шага? В том, отвечает он, что «природу определили как мастерскую», а человека – мастером в ней. Что им предлагается взамен? Выработать – опять же самозаконодательно – новый рациональный подход, свободный от недостатков предыдущего. Согласно новому подходу, приходящий из будущего человек будет любить природу, пронизанную, по его представлениям, благодатной целесообразностью. Причем, любовь к природе будет, видимо, вытекать из этой же всеобщей целесообразности! Любить, ведь, будет целесообразно! Но что мы видим в действительности? Что нового нам предлагают уже сегодня? Одна рациональная модель готова смениться другой рациональной моделью. Более совершенной, более взвешенной, более осмысленной, как полагают податели этих еще не взошедших семян. Неизменным остается только рациоцентризм. Неизменной остается, добавим мы, и инородность этого рациоцентризма подлинной порождающей жизни, к которой ведет совсем другая дорога. Что это за дорога? Куда она ведет?
Торная тропа ведет сеятеля к его наделу. Сколько раз хожено по ней? Все здесь такое родное и близкое. Войдем же и мы в эту близость. Она прямо, без опосредований, указывает на существо происходящего. Вся простота дела открывается в ней целиком. Вот
55
и сейчас он обнаруживает, что дело требует от него завершения. Он теперь уже жнец. Ведь всему дано свое время. Настал черед собирать урожай.
Сила, отпущенная с семенем в мир, готова снова собраться в месте своего исхода! Колосья, налитые зрелостью, гнутся к земле, одновременно кланяясь в ноги жнецу и стремясь вернуться к тому, из чего сами когда-то и вышли. Наступает момент, когда умолкает природа. Все затихает. Так затихает, что слышен каждый шорох и каждый вздох. Человек последний раз подходит к своему наделу. Последний раз взор падает на его широту. Сеялось ли гам? Взошло ли хоть что-нибудь? В это ответственное время можно услышать медленный стук замирающего сердца. Что-то там будет. Это волнение передастся каждому, кто поворачивает взор к своему наделу. Каждый в этот момент сознает, а кто-то, может быть, впервые, что и он, как оказывается, простой пахарь и жнец. Его дело – сущностно тоже. Для каждого наступает то, чего одни ждут в трудах своих и бессонных ночах, что требовало порой напряжения всех духовных и физических сил, а другие, не веря в наступление этого, беспечно проводили дни в праздности и представлениях. Последние утверждают часто, что это никогда не наступит именно пегому, что само «это» – не более, чем представление, что этому не бывать, что все «это» домыслы отсталых людей, наконец, что жизнь прекрасна и дана не для тяжкого возделывания, а для наслаждения и потребления. Но в их глазах, за напускной веселостью и самодовольным безразличием, хорошо, а в этот момент особенно хорошо, видна печать страха и неуверенности. Вглядимся в них! Что же «это» такое, что держит в нечеловеческом напряжении одних и других? Тот, кто хоть когда-нибудь действительно возделывал, тот знает, что к порогу приступило самое сокровенное и неотвратимое. Приступило то, дорога к чему бывает длиною в жизнь, то, что придавало сил, когда казалось, что для этого не было никаких оснований, когда, наконец, терялась надежда и шаталась сама вера в благополучный исход начатого дела. Это сокровенное оправдывает все предыдущие лишения и снесенные тяготы. Оправдывает и обосновывает, возвращая нас по существу к началу, к истоку нашего пути. Возвращает к тому, в чем собирается труд пахаря и сеятеля, его тревога и забота о всходах собирается воедино та душевная сила, которая была отпущена семени, утвердила всходы и, поддержав в нелегкое время, привела к созреванию. Мы наконец-то можем прямо и твердо назвать то, в чем дело сеятеля, а значит и его урожай приходят к своему присутствию. Имя этому сокровенному – жатва.
***
Ясное утреннее небо опрокидывает на землю свой голубой купол. Все различимо настолько отчетливо, что не только видимое, но и слышимое заставляет сосредоточиться и собраться. Вслушаемся и мы в то, что доносится с поля: жат-ва! жат-ва! жат-ва!.. Нет, мы не будем поддаваться впечатлительности городского обывателя. Это не многократно повторенное слово «жатва». Тогда что же это? Только внимание полноте присутствия подскажет нам – это звук! Вслушаемся еще раз! Мы действительно слышим звук, издаваемый разящим ударом лезвия жнеца о подкашиваемые им стебли хлеба. «Жатва» – это именно звук, завораживающий своим неотвратимым присутствием все, чему суждено свершиться!
|
|||||
|
  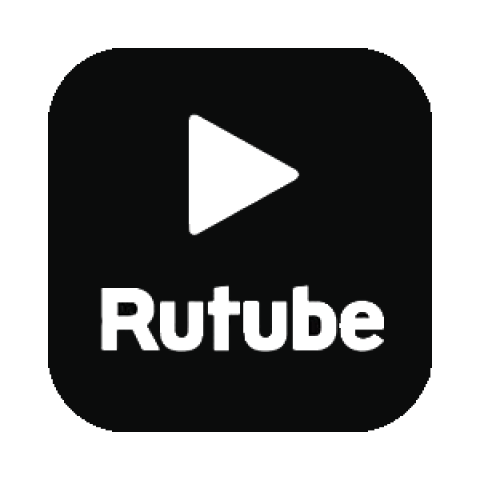  |
|
 назад
назад


