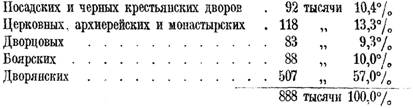Плеханов Г.В. История русской общественной мысли* Предисловие В предлагаемом исследовании, посвященном истории русской общественной мысли, я исходил из того основного положения исторического материализма, что не сознание определяет бытие, а бытие сознание. Поэтому я прежде всего обратился к обзору об᾽ективных условий места и времени, определявших собою ход развития русской общественной жизни. Этому обзору посвящено мое историческое введение. Условиями места я называю географическую, а условиями времени – историческую обстановку названного процесса. Изучение географической обстановки, – другими словами, свойств географической среды, – казалось мне тем более уместным, что наши историки не всегда посвящали ей должное внимание, а когда посвящали, то не всегда смотрели на нее с правильной точки зрения. Примером не вполне удовлетворительной оценки влияния географической среды на историю русского народа мне послужили соображения покойного С.М.Соловьева о том, как должна была влиять эта среда на характер нашего народа. Я держусь того убеждения, что географическая обстановка влияет на характер данного народа лишь через посредство общественных отношений, принимающих тот или другой вид, в зависимости от того, замедляет или ускоряет она рост производительных сил, находящихся в распоряжении данного народа. Анализ географической обстановки русского исторического процесса привел меня к тому заключению, что под ее влиянием рост производительных сил русского народа происходил очень медленно сравнительно с тем, что мы видим у более счастливых в этом отношении народов Западной Европы. Уже эта сравнительная медленность роста производительных сил, а стало-быть, и всего хода экономического развития в значительной степени об᾽ясняет некоторые, важные,– хотя, конечно, не абсолютные, как думали славянофилы, а только относительные,– особенности нашего общественного быта. В свою очередь анализ исторической обстановки показал мне, что она долго усиливала эти обусловленные географической средой особенности, так что в течение довольно продолжительной эпохи Русь, по характеру своего социально-политического строя, все более и более удалялась от Запада и сближалась с Востоком. Это неизбежно должно было наложить глубокий отпечаток на то, что называется русским народным духом. Но та же историческая обстановка положила, наконец, предел этому сближению Руси с Востоком и принудила ее искать сближения с Западом. Петровская реформа составила чрезвычайно важную эпоху в истории русской общественной жизни. Ее неизбежным, хотя более или менее отдаленным, следствием явилась европеизация наших общественно-политических отношений, правда, и поныне еще не совсем законченная. Само собой понятно, что европеизация русского общественного бытия не могла не сопровождаться европеизацией русского общественного сознания, то-есть что после реформы наши идеологи учились у западно-европейских. Теперь очень недурно выяснена история «западного влияния» в русской литературе. Но я считал, необходимым остановиться на следующей до сих пор почти незамеченной особенности названного влияния.
* Плеханов Г.В. История русской общественной мысли. Том I. Издание 2-ое дополненное. – Издательство: Mocква – Ленинград. 1925.
Общественно-политические отношения передовых стран Западной Европы, определившие собою ход развития западно-европейской общественной мысли, конечно, не оставались неизменными с тех пор, как «западное влияние» стало заметным образом проникать в нашу страну. До 1789 года общественное движение происходило на Западе под знаменем буржуазии, которая вела решительную борьбу с духовной и светской аристократией. Идеологи западной буржуазии были тогда передовыми идеологами всего мира. Но после 1789 года буржуазия, вообще говоря, перестала быть революционным классом. Она обнаруживала с тех пор лишь более или менее оппозиционное настроение, вызывавшееся реакционными стремлениями аристократии. Наконец, после 1848–49 гг. она утратила и это настроение, усвоив себе консервативные или даже реакционные наклонности. Разумеется, эта перемена целиком отразилась и на деятельности ее идеологов. До Великой французской революции они были более или менее сознательными, более или менее последовательными революционерами. События 1848 г. сделали их более или менее сознательными, более или менее последовательными консерваторами или реакционерами. Однако, русская интеллигенция только в лице наиболее проницательных своих представителей отдавала себе ясный отчет в этих совершившихся на Западе переменах. Да и наиболее проницательные ее представители не всегда со всех сторон выяснили себе тесную причинную связь перемены, происходившей в идейной области, с переменой в области социально-политической. Сознавая эту связь в более знакомых им областях мысли, они подчас как-будто вовсе не подозревали ее существования в областях им менее известных. Благодаря этому, у нас часто выходило так: идеологи, заимствовавшие у западных писателей передовые общественные теории, своим появлением знаменовавшие тот до крайности важный исторический факт, что роль передового класса переходила на Западе от буржуазии к пролетариату, придерживались в то же самое время таких философских или литературных понятий, которые знаменовали собою упадок буржуазии, ее отказ от роли передового застрельщика в освободительной борьбе. Возьмем пример. Усвоив себе такие социальные теории, которые были самыми передовыми западными социальными теориями изо всех ему известных (наиболее передовой между ними теории Маркса он не знал), Чернышевский был вполне последователен, держась в философии учения Фейербаха, бывшего наиболее передовым изо всех знакомых ему учений Запада. Но в конце шестидесятых годов мы уже не видим таких последовательных мыслителей между передовыми русскими идеологами. Тогда рядом с передовыми социальными учениями Запада у нас стали распространяться под именем критицизма такие философские учения, успех которых на Западе вызван был именно указанным выше упадком буржуазных идеологий после 1848 года. И с этих пор в течение целых десятилетий миросозерцание передовых русских писателей, – идеологов самого передового тогда русского общественного слоя, – слоя разночинцев, – неизменно страдало эклектизмом, совмещая в себе такие совокупности взглядов, которые по самой природе своей были несогласимы между собою, так как служили выражением диаметрально противоположных и потому совершенно непримиримых между собою общественных течений. Конечно, это было большим минусом в истории нашего умственного развития. Чаадаев с горестью восклицал когда-то: «Лучшие идеи, за отсутствием связи или последовательности, замирают в нашем мозгу и превращаются в бесплодные призраки». Это, очевидно, было огромным преувеличением. Но не менее очевидно и то, что в наших лучших идеях в самом деле нередко замечается недостаток «связи или последовательности». Такой недостаток не может не раздражать публициста, избавившегося от него благодаря той или другой счастливой случайности. Но историк обязан «не плакать, не смеяться, а понимать». Он должен об᾽яснить, откуда произошел недостаток «связи или последовательности» в миросозерцании многих наших более или менее передовых идеологов. Я старался по мере сил добросовестно выполнить эту обязанность историка. Анализируя ту историческую обстановку, в которой совершалось умственное движение в среде различных классов русского населения, я постарался учесть влияние на него кризиса, вызванного в истории западно-европейской мысли революционным движением 1848 года. Мой анализ привел меня к тому выводу, что нелогичность, нередко проявляемая русскими идеологами, об᾽ясняется в последнем счете логикой западно-европейского общественного развития. Как ни парадоксален на первый взгляд этот вывод, я считаю его совершенно неоспоримым. Тех, которые были бы неприятно удивлены им, я попросил бы вспомнить, что явления, представляющиеся нам парадоксальными, очень нередко получаются в результате сложных процессов как в природе, так и в истории. Еще два слова. Для меня несомненно, что в моей работе найдутся те или иные частные промахи. Errare humanum est. Но я глубоко убежден как в непоколебимой правильности своего указанного выше исходного положения, так и в том, что, усвоив его себе, я должен был итти в своем исследовании именно тем путем, который только-что указан здесь мною. Логика обязывает. Г. Плеханов. –––––
Выражаю мою глубокую благодарность тем исследователям, которые, – иногда далее не будучи лично знакомы со мною, – помогли мне доставкою материала. Я никогда не забуду их услуг. Ничто не мешает мне, я полагаю, назвать здесь по имени Н.А.Рубакина, с любезностью, поистине беспредельной, предоставившего в мое полное распоряжение свою богатейшую библиотеку.
Г. П. –––––
Часть I. Введение Очерк развития русских общественных отношений
Ход развития общественной мысли определяется ходом развития общественной жизни. Это основное положение исторического материализма редко и неохотно оспаривается теперь даже идеалистами. Да и трудно оспаривать его. Научное исследование истории мысли, – и всех вообще идеологий, – только потому и делает теперь некоторые успехи, что исследователи начинают сознавать причинную связь между «ходом вещей», с одной стороны, и «ходом идей» – с другой. В виду этого читатель не удивится, если очерку истории русской общественной мысли я предпошлю несколько соображений о ходе развития русских общественных отношений. Похожа ли история России на историю Западной Европы? Начиная с тридцатых годов прошлого века, а, пожалуй, уже с конца двадцатых, вопрос этот не переставал интересовать всех тех русских людей, которые не были совершенно беззаботны насчет судеб своего отечества. О нем очень много спорили и писали. В дальнейшем изложении нам придется много заниматься разными ответами на него. Теперь же уместно будет заметить одно: в наши дни он как-будто отстоит дальше от своего решения, чем был, например, в эпоху знаменитого, столь богатого теоретическим содержанием, спора славянофилов с западниками. В самом деле, тогда спорившие стороны, расходясь между собою в очень многом, почти во всем, были, однако, согласны в том, что история России совершенно непохожа на историю Запада. На этот счет такой крайний западник, каким был В.Г.Белинский, вполне соглашался с таким крайним славянофилом, каким сделался И.В.Киреевский[1]. Конечно, признавая, что русская общественная жизнь развивалась совсем не так, как западно-европейская, Белинский и его единомышленники делали отсюда теоретические и практические выводы, прямо противоположные тем, к которым приходили славянофилы. Но само это положение не оспаривалось ни теми, ни другими. В.Г.Белинский, этот «фанатик, человек экстремы», как называет его в своем дневнике Герцен именно за его безграничную враждебность по отношению к славянофилам, наверно, с удивлением и недоверием взглянул бы на человека, который сказал бы ему, что общепринятое полное противопоставление исторических судеб России историческим судьбам Западной Европы не имеет под собой достаточного фактического основания. Он,
наверно, нашел бы, что такой человек заходит уж слишком далеко в своем увлечении западничеством. Не то теперь. Теперь у нас нет единодушия на этот счет. Так, например, г. П.Милюков повторил в своих «Очерках по истории русской культуры» взгляд «людей сороковых годов» на полную историческую самобытность России[2]. А покойный Павлов-Сильванский, в своих замечательных работах о феодализме в древней Руси, не только отвергал этот старый взгляд, но даже обнаружил склонность уменьшать значение тех неоспоримых различий между русским и западно-европейским феодализмом, которые он сам же вынужден был признавать в своих сочинениях. Разногласие идет, как видим, очень далеко. Однако, мы не должны смущаться им. Как бы далеко ни расходились теперь между собою отдельные исследователи, спорный вопрос все-таки ближе к своему решению, чем был он в эпоху Белинского: история и социология все-таки очень значительно подвинулись вперед сравнительно с той эпохой. Попробуем же подвести итог данным, находящимся теперь в нашем распоряжении.
Глава I Взгляд Н.П.Павлова-Сильванского на этот вопрос
Сравнивая Россию с Западом Европы, надо помнить, что и на Западе ход развития социально-политических отношений совершался не всегда одинаково в различных странах. Одно дело Франция, а другое дело, например, Пруссия. Социально-политические отношения Пруссии развивались подчас в порядке, который может показаться «обратным» сравнительно с тем, какой имел место во Франции. Ниже, изучая ожесточенные споры, вызванные вопросом – быть или не быть капитализму в России, мы увидим, как много путаницы в понятиях вызывалось слишком отвлеченным представлением о ходе экономического развития Запада. Что же касается вопроса о феодализме в древней Руси, то, конечно, несправедливо было бы обвинять в неопределенности выражений человека, более всех других сделавшего для решения этого вопроса. Он всегда совершенно определенно указывал, с какой именно страной Запада сравнивалась им удельная Русь. Для сравнения ему служила средневековая Франция, которую он справедливо считал классической страной феодализма. Но нельзя отрицать, что он грешил другим грехом, обратным вышеуказанному: он как-будто позабыл, что в ходе общественного развития всех западных стран есть черты, значительно отличающие его от хода общественного развития Востока, т.-е., точнее, великих восточных деспотий, – напр., древнего Египта или Китая. И это забвение помешало ему
надлежащим образом использовать свои собственные, – повторяю, весьма ценные, – выводы. Дело вот в чем. Павлов-Сильванский был совершенно прав, когда восстал против «утвердившегося в нашей науке взгляда на полное своеобразие русского исторического процесса». И ему удалось вполне убедительно показать, что не может быть и речи о «коренном несходстве древне-русского строя с феодальным». Однако, там, где отсутствует коренное несходство, может быть на-лицо несходство второстепенное, придающее все-таки достойное замечания «своеобразие» изучаемому процессу. Поэтому отрицательное, в общем, очень удовлетворительное у Павлова-Сильванского, – решение старого вопроса о полном своеобразии русского исторического процесса еще отнюдь не исключает вопроса об его относительном своеобразии. Мы знаем теперь не только то, что Россия, – подобно европейскому Западу, – прошла через фазу феодализма. Мы знаем, кроме того, что та же фаза была в свое время пройдена и Египтом, и Халдеей, и Ассирией, и Персией, и Японией, и Китаем, – словом, всеми или почти всеми культурными странами Востока. Поэтому мы уже не имеем никакого права толковать о полном своеобразии, скажем, египетского исторического процесса сравнительно с французским. Однако, это еще не значит, что мы можем об᾽явить тождественными эти два процесса. Вовсе нет: ход общественного развития древнего Египта все-таки в очень многом очень непохож на ход общественного развития Франции. То же надо сказать, сравнивая историческое развитие Франции с историческим развитием России: о полном своеобразии русского исторического процесса не может быть и речи; такого своеобразия вообще не знает социология; но, не будучи вполне своеобразным, русский исторический процесс все-таки отличается от французского некоторыми весьма важными чертами. И не только от французского. В нем есть особенности, очень заметно отличающие его от исторического процесса всех стран европейского Запада и напоминающие процесс развития великих восточных деспотий. Притом, – чем весьма значительно осложняется вопрос, – особенности эти сами переживают довольно своеобразный процесс развития. Они то увеличиваются, то уменьшаются, вследствие чего Россия как бы колеблется между Западом и Востоком. В течение московского периода ее истории они достигают гораздо больших размеров, нежели в течение киевского. А после реформы Петра I они опять уменьшаются – сначала очень медленно, потом все скорее и скорее. Эта новая фаза русского общественного развития – фаза сперва медленной и поверхностной, а потом все ускоряющейся и углубляющейся европеизации России, – далеко еще не закончена и в наши дни. Все это как нельзя более важно для всестороннего выяснения нашего исторического процесса. Но Павлов-Сильванский как-будто закрыл глаза на все это, удовольствовавшись тем своим, – повторяю, совершенно правильным, – утверждением, что мысль о полном своеобразии русского исторического процесса решительно не выдерживает научной критики. Он основательно упрекал русских исследователей в том, что они недостаточно
пользуются сравнительным методом. Но что значит пользоваться им? Значит ли это отмечать только черты сходства двух или нескольких изучаемых процессов? Очевидно, нет. Отмечая черты сходства, также необходимо отмечать и черты различия. Кто не обращает достаточного внимания на эти последние, тот неправильно пользуется сравнительным методом. Мне возразят, пожалуй, Что Павлов-Сильванский писал не философию русской истории, а исследование о феодализме удельной Руси, и что он имел полное право не выходить из пределов своей задачи. Это, разумеется, так. Но, во-первых, выдвигая вопрос о полном своеобразии русского исторического процесса в его целом, он сам вышел из пределов своего исследования, а, во-вторых, он, к сожалению, показал себя односторонним даже и в этих пределах. Так, он сам признал известное несходство между русским феодализмом, с одной стороны, и французским – с другой. Но вместо того, чтобы внимательно рассмотреть это несходство, он ограничился мимоходным упоминанием о нем. Он не спросил себя, как должно было повлиять относительное своеобразие русского феодализма на дальнейшее развитие общественных отношений в нашей стране (т.-е., собственно, в Московской Руси). Отсюда – недостаточно отчетливое представление о всем вообще русском историческом процессе. Этот недостаток об᾽ясняется и извиняется реакцией против старого и совершенно несостоятельного учения о том, что русская история не имеет ровно ничего общего с историей Запада. Но об᾽яснить и извинить не значит устранить. Недостаток все-таки существует и его должны заботливо избегать те наши будущие исследователи, которые захотят итти по следам Павлова-Сильванского. Как бы там, однако, ни обстояло дело с выводами этого талантливого ученого, едва ли можно усомниться в том, что историк русской общественной мысли, отвергая, как совершенно устаревшее, учение о полном своеобразии русского исторического процесса, ни в каком случае не может закрыть глаза на его относительное своеобразие. Ведь ясно, что именно здесь, именно в этом относительном своеобразии, в этих второстепенных, но все-таки очень важных особенностях русского общественного развития, и надо искать об᾽яснения своеобразных черт, наблюдаемых в ходе нашего умственного развития и в нашем так-называемом народном духе.
Глава II Взгляд В.О. Ключевского на роль экономического и политического моментов в истории Руси. – Критика этого взгляда
Ход развития всякого данного общества, разделенного на классы, определяется ходом развития этих классов и их взаимными отношениями, т.-е., во-первых, их взаимной борьбой там, где дело касается внутреннего общественного устройства, и, во-вторых, их более или менее дружным сотрудничеством там, где заходит речь о защите страны от внешних нападений. Стало быть, ходом развития и взаимными отношениями классов, составлявших русское общество, и должно быть об᾽яснено неоспоримое относительное своеобразие русского исторического процесса.
Наша историческая наука давно уже поставила перед собой, – следуя поучительному примеру французских историков, времен реставрации, – вопрос о том, каковы были взаимные классовые отношения в России. Как сказано мною выше, было время, когда люди самых противоположных взглядов сходились у нас в том убеждении, что история России совсем не похожа на историю Запада. Несходство это об᾽яснялось тогда тем, будто бы несомненным, обстоятельством, что, в противоположность Западу, Россия не знала взаимной борьбы классов. Теперь это обстоятельство никак не может считаться несомненным. Теперь серьезному исследователю приходится спрашивать себя не о том, имела ли классовая борьба место в нашей стране, – теперь уже доказано, что имела, – а о том, походила ли она и в какой мере походила она на ту, которая совершалась в других странах. За разрешением этого коренного вопроса мы прежде всего обратимся к одному из самых авторитетных, – если не самому авторитетному, – теперь русскому историку. «История наших общественных классов, – говорит покойный проф. В. Ключевский, – представляет немало поучительного в научном отношении. В ходе их возникновения и развития, в процессе определения их взаимных отношений видим действие условий, похожих на те, какими создавались общественные классы в других странах Европы. Но условия эти у нас являются в других сочетаниях, действуют при других внешних обстоятельствах, и потому созидаемое ими общество получает своеобразный склад и новые формы»[3]. Подобно Павлову-Сильванскому, проф. Ключевский ограничивается односторонним, – завещанным эпохой тридцатых и сороковых годов прошлого века, – сравнением России с Западом. Если бы он дополнил это одностороннее сравнение, сопоставив паше отечество с Востоком, то сейчас же заметил бы, что чем более своеобразным становился ход нашего общественного развития в сравнении с западно-европейским, тем менее своеобразен был он по отношению к ходу развития восточных стран, – и наоборот. Это замечание очень пригодилось бы ему в его дальнейших соображениях. Но в границах своего сравнения он совершенно прав: общественное здание, сложившееся на русской почве, обнаруживает «своеобразный склад и новые формы». Поэтому нам остается только рассмотреть, чем же собственно отличались те сочетания условий, благодаря которым история наших общественных классов приняла не такой вид, какой получила она «в других странах Европы». Что узнаем мы на этот счет от проф. В. Ключевского? По его словам, в истории всякого данного общественного класса нужно различать два момента: экономический и политический. Первый из них выражается в разделении общества согласно с разделением общественного труда. Второй дополняет, – «завершает», – собою действие первого, распределяя общественную
власть сообразно организации народного хозяйства, так что «экономические классы превращаются в политические сословия». Иначе сказать: «политические факты вытекают из экономических, как их последствия». Повидимому, проф. В.Ключевский считал такой ход дела наиболее нормальным. Но он находил, что местами дело шло в обратном порядке. И вот почему. Страна, в которой народное хозяйство сложилось уже довольно прочно, может подвергнуться завоеванию, а завоевание введет в нее новый общественный класс и тем изменит положение и взаимные отношения прежних. Это вызовет многие перемены в ходе ее хозяйственной жизни. Очевидно, что они явятся «прямыми последствиями политического факта». Проф. В. Ключевскому казалось, что именно так или, по крайней мере, очень, близко к этой схеме, согласно которой политический момент предшествует экономическому, создавались многие государства Западной Европы[4]. И он приписывал огромное значение этому способу их возникновения. Он говорит, что далеко не все равно, вытекают ли политические факты из экономических, или же – наоборот. Поясняя эту свою мысль, он рассуждал следующим образом. Когда внешняя сила вторгается в общество и вооруженной рукой захватывает распоряжение народным трудом, тогда весь создаваемый ею государственный порядок приспособляется к защите приобретенных ею экономических выгод. Этим вызывается целый ряд чрезвычайно важных последствий. «Основания государственного устройства, отношения к верховной власти и к другим сословиям при таком ходе привлекают к себе заботливое внимание господствующего класса: вопросы государственного права выступают на первый план, составляют самые видные явления в истории общества; частные гражданские отношения лиц, как к их экономическое положение, устанавливаются под прямым влиянием этих вопросов, в прямой зависимости от того, как они разрешаются, а не наоборот, – и это потому, что господствующий класс старается так определить свои политические отношения, чтобы можно было мирно пользоваться экономическими выгодами, приобретенными завоеванием»[5]. Благодаря всему этому, внутренняя история общества получает боевой характер, все общественные отношения обостряются, учреждения и классы получают резкие очертания. Наоборот, где завоевание не имело места, там основы общественного порядка обозначились не так явственно и не так последовательно проводились на практике, вследствие чего внутренняя история общества приобретала более мирный характер. Покойный профессор не решался утверждать, что развитие русских общественных отношений шло этим последним путем. Но в то же время он не считал возможным уподобить ход этого развития западно-европейскому. Задавая себе вопрос: «который из двух моментов, политический или экономический, предшествовал другому в образовании наших общественных классов, и всегда ли один и тот же из них шел впереди другого», – он в конце-концов склонялся к той мысли,
что в истории нашего общества «господствовали смешанные процессы», т.-е. что у нас каждый из этих двух моментов поочередно играл роль то предшествующего, то последующего: «иногда образование сословий начиналось политическим моментом, а иногда оно являлось следствием экономического развития общества. Вот почему исследователь, хорошо изучивший происхождение и развитие западно-европейских сословий, не встречает у нас повторения знакомых ему явлений»[6].
Глава III Критика взгляда В.О.Ключевского
Итак, на Западе экономический момент являлся следствием политического, а у нас господствовали смешанные процессы. В этом заключается, по мнению проф. В. Ключевского, коренная причина относительного своеобразия, замечаемого в ходе русского исторического развития. Разберем это мнение. Убеждение высоко-талантливого историка в том, что на Западе политический момент предшествовал экономическому, основывалось на факте завоевания, которому он приписывал роль первого толчка в развитии западно-европейского общества. Но позволительно спросить: имеем ли мы сколько-нибудь серьезное основание думать, что политический момент предшествовал экономическому в истории какого бы то ни было общества? На этот важный социологический вопрос западная наука ответила решительным отрицанием еще в лице Гизо и других французских историков времен реставрации. Мне уже не раз приходилось излагать взгляды этих историков, поэтому я не вижу никакой надобности входить в большие подробности по этому предмету. Однако, мне все-таки придется повторить кое-что из сказанного мною в других местах. Вот очень интересное и убедительное соображение Гизо: «Большая часть писателей, ученых или публицистов старалась об᾽яснить данное состояние общества, степень или род его цивилизации, его политическими учреждениями. Было бы благоразумнее начинать с изучения самого общества для того, чтобы узнать и понять его политические учреждения. Прежде, чем стать причиной, учреждения являются следствием, общество создает их прежде, чем начинает изменяться под их влиянием; и вместо того, чтобы о состоянии народа судить по формам его правительства, надо прежде всего исследовать состояние народа, чтобы судить, каково должно было быть, каково могло быть его правительство... Общество, его состав, образ жизни отдельных лиц в зависимости от их социального положения, отношения различных классов лиц, словом, гражданский быт людей, – таков, без сомнения, первый вопрос, который привлекает к себе внимание историка, желающего знать, как жили народы, и публициста, желающего знать, как они управлялись»[7].
Я не буду приводить здесь выписки из сочинений Огюстэна Тьерри и Мииье, вполне разделявших этот взгляд Гизо[8]. Я считаю доказанным мною прежде, что еще в эпоху реставрации французские историки, сами приписывавшие завоеванию очень большую роль в развитии европейского общества, отвергали, как отживший научный предрассудок, ту мысль, что социальный строй данного народа может быть об᾽яснен его политическими учреждениями. Они настойчиво и убедительно доказывали, что политические учреждения были следствием прежде, нежели стать причиной. И всякий новый успех в деле научного об᾽яснения общественной жизни подтверждал и углублял это их учение. Исторический материализм Маркса-Энгельса, об᾽ясняющий политические учреждения социальным строем, а социальный строй общественной экономикой, окончательно выяснил взаимное отношение экономического и политического «моментов» общественного развития. Маркс и Энгельс прекрасно понимали огромное историческое значение политического «момента». Именно по этой причине они сами деятельно занимались политикой. Но они еще яснее, нежели Гизо, видели, что действие названного момента всегда представляет собою лишь обратное влияние следствия на вызвавшую его причину. И легко убедиться, что правильность их точки зрения подтверждается, между прочим, собственными рассуждениями проф. Ключевского. Он так изображает ход общественного развития в тех странах, где политический «момент» шел, по его мнению, впереди экономического: «В стране промышленная культура сделала уже некоторые успехи, труд населения успел до известной степени овладеть силами и средствами местной природы, народное хозяйство уже установилось с некоторой прочностью, когда эта страна подверглась завоеванию, которое ввело в нее новый общественный класс, изменив положение и отношения прежних туземных. Пользуясь правом победы, этот класс берет в свое распоряжение труд побежденного народа. Перемены, которые происходят от этого в течении народно-хозяйственной жизни, являются прямыми последствиями политического факта, вторжения нового класса, который начинает править обществом в силу завоевания»[9]. Это, бесспорно, так: перемены, происходящие в экономике страны под влиянием политического факта завоевания, представляют собою последствия политического факта. Но ведь это простая тавтология. Вопрос заключается вовсе не в том, можно ли считать последствиями политического факта перемены, этим фактом вызываемые: само собою разумеется, что и можно, и должно. Вопрос заключается в том, отчего же зависит, чем же определяется характер тех перемен, которые вызываются политическим фактом. Другими словами: почему данный политический факт, – скажем, то же завоевание, – в одном случае вызывает одни
перемены в народном хозяйстве, а в другом – совершенно другие? И на этот вопрос может быть только один ответ: потому, что в разных случаях различна та степень экономического развития, на которой находятся завоеванные; а также еще и потому, что в разных случаях различна та степень экономического развития, на которой находятся завоеватели. Но это значит, что возможные последствия политического факта заранее определяются экономическим моментом. Иначе сказать, возможное действие политического момента заранее определяется моментом экономическим. Это до такой степени верно и до такой степени само собой разумеется, что сам проф. Ключевский молчаливо признает это, рисуя свою схему. В самом деле, посмотрите. Согласно его предположению, страна подвергается завоеванию уже после того, как промышленная культура сделала в ней некоторые успехи, а народное хозяйство уже установилось с некоторой прочностью. Ясно, что политический факт завоевания не предшествует здесь данному строю экономических отношений, а действует на него, как на уже существующий. И столь же ясно, что его действие будет изменяться в зависимости от характера этого, предварительно данного, склада экономических отношений. Это опять молчаливо признается самим проф. Ключевским. «Завоевателям для своего материального обеспечения, – рассуждает он, – нет нужды заводить вновь хозяйство в захваченной стране, указывать приемы и средства для эксплуатации ее естественных богатств. Они насильственно вторглись в установившийся экономический порядок, стали с оружием в руках у готового хозяйственного механизма; по указанию собственных потребностей им только нужно переставить некоторые его части, задать ему некоторые новые работы, направить народный труд преимущественно на разработку тех естественных богатств края, обладание которыми они нашли наиболее сподручным и прибыльным. После того у них оставалась бы забота не устроять технически этот механизм, а только обеспечить за собой послушное действие приставленных к нему рабочих рук»[10]. Это «только» как нельзя более многозначительно: оно решает весь вопрос. Если завоевателям нет надобности «устроять технически» хозяйственный механизм попавшей в их распоряжение страны; если им остается «только» обеспечить за собою послушную деятельность рабочих рук, приводящих этот механизм в движение; если, – говоря языком политической экономии, – их роль и стремление сводятся к тому, чтобы присвоить себе прибавочный продукт, производимый трудящимся населением страны при таких хозяйственных условиях, которые существовали в ней еще до завоевания, то не ясно ли, что мы не имеем решительно никакого права считать политический момент предшествующим экономическому? Не очевидно ли, что и здесь политический
момент выступает после экономического и что первый, как уже сказано выше, определяется вторым в характере своего действия? Наконец, не очевидно ли, что действие это по своему общему характеру ничем существенным не отличается от того, которого мы можем и должны ожидать от туземного господствующего класса, т.е. класса, возникающего независимо от завоевания, в силу экономического развития страны? Разве же такой класс не стремится обеспечить за собой послушную деятельность, трудящегося населения? Разве же он не старается присвоить себе прибавочный продукт, создаваемый руками народной массы, не испытавшей завоевания, но все-таки находящейся в состоянии экономической зависимости? «Этого обеспечения, – продолжает проф. Ключевский, – господствующий класс будет стараться достигнуть политическими средствами, известной системой законодательства, приспособленной к цели организацией сословий, соответственным устройством правительственных учреждений»[11]. Все это опять, бесспорно, так. Но если бы мы имели дело с господствующим классом, в происхождении которого завоевание не играло ровно никакой роли то и тогда мы непременно увидели бы, что он заботится о создании такой системы законодательства, которая позволила бы ему отстаивать выгоды своего экономического положения. И точно также мы убедились бы, что этот класс пользуется политическими средствами для достижения своей цели. Ведь иначе и быть не может.
Глава IV Критика взгляда В.О.Ключевского, (окончание)
Проф. Ключевский указывает на Новгород, как на такую часть древней Руси, где общественное развитие соответствовало первой схеме: расчленение общества по роду занятий, которому соответствует политическое значение разных его классов. «Рано освободившись от непосредственного давления со стороны князя и служилой аристократии, этот вольный городок усвоил себе формы демократического устройства. Но еще раньше успехи внешней торговли, ставшей главным жизненным нервом города, создали в нем несколько крупных торговых домов, которые были руководителями новгородской торговли и в силу этого сделались потом руководителями новгородского управления, правительственной аристократией, господство которой, однако, всегда оставалось простым фактом, не сопровождалось отменой демократических форм новгородского устройства»[12]. Тут мы видим то же самое, что уже видели выше: неоспоримые факты ложатся в основу такого заключения, которое никак не может быть признано неоспоримым. И это потому, что заключение гораздо шире своей фактической основы. История показывает, что местами и иногда политическое господство высшего, – по своему экономическому положению, – класса «остается простым фактом», а в других местах или в другое время облекается в более или
менее определенные и прочные юридические формы. Все зависит от обстоятельств времени и места. Если в Новгороде мы можем наблюдать первый случай, то второй представляется нам, например, в Венеции. Первоначально и в этом «вольном городке» были только классы, отличавшиеся один от другого экономическим положением, но не было сословий с различными политическими правами. А потом дело резко изменилось. В конце XIII в. произошла так-называемая sеrra ta del maggior соnsiglіо, положившая прочную основу юридическим привилегиям венецианской торговой аристократии. Что же? Имеем мы право считать эту перемену последствием, – хотя бы и очень отдаленным, – завоевания? Никакого! Адриатическая «царица морей» не знала иностранного завоевания вплоть до вступления в нее французских войск в мае 1797 г. Мы можем сказать словами проф. Ключевского, что там экономический момент всегда предшествовал политическому. А между тем мы наблюдаем в ней то самое явление – приобретение политических привилегий экономически господствующим классом, – которое, по мнению нашего автора, возникает лишь в таких странах, где, наоборот, политический момент предшествует экономическому. С другой стороны, Флоренция, – подвергавшаяся иностранному завоеванию, – в течение продолжительного времени неуклонно изменяла свое политическое устройство в направлении демократии, т.-е. в направлении прямо противоположном аристократическому направлению политического развития Венеции. По какой же причине? Потому ли, что отношение (во времени) политического момента к экономическому было там прямо противоположно тому, которое имело место в Венеции? Нет! Во Флоренции, как и в Венеции, как и во всем мире, экономический момент «предшествовал» политическому. Но во Флоренции он вызвал иное соотношение общественных сил, нежели в Венеции, и тем обусловил противоположное направление ее политического развития, т.-е. совсем иную природу политического момента[13]. Но хотя в Венеции утвердилось аристократическое, а во Флоренции демократическое устройство, однако, и тут и там господствовавший класс усердно пользовался политическими средствами для защиты своих экономических выгод. То же было, разумеется, и в Новгороде. Только средства эти были различны, в зависимости от различий в политической конституции, вызванных экономическими причинами. И то же самое мы видим и теперь. В Пруссии господствующий класс до сих пор имеет политические привилегии. Во Франции он уже не имеет их. Однако, французская буржуазия так же усердно, как прусские юнкеры и богатые бюргеры, пользуется политическими средствами в борьбе за свое существование. И, конечно, она нисколько не меньше их дорожит тем законодательством, которое охраняет ее экономическое господство. Это вряд ли нуждается в доказательствах.
А Россия? Экономическое, а потому и политическое развитие было неодинаково в различных частях этой обширной страны. Но в общем мы все-таки можем сказать, что до-монгольская Русь знала классы, но не знала сословий, а в XIII–XV вв. можно заметить постепенное появление различий в юридических правах и обязанностях различных классов. Эти различия приводят, – сначала в Литовской, а потом ив Московской Руси, – к образованию более или менее резко разграниченных одно от другого сословий. Mutatis mutandis, дело шло здесь так же, как шло оно в Венеции, причем и здесь, как решительно везде, экономический момент предшествовал политическому, давая направление его развитию и определяя быстроту его хода и яркость его феноменов. Ошибка проф. Ключевского состоит в том, что он слишком сузил понятие политического средства, совершенно произвольно отождествив его с понятием «политическая привилегия». Устранив эту, чреватую ложными выводами, ошибку, мы, – опять на основании собственных соображений нашего автора, – с ясностью увидим, к чему сводится в действительности отношение между экономикой и политикой. «Все это с течением времени во многом изменит народное хозяйство, вызовет в нем много новых отношений, – говорит почтенный историк, заметив, что завоеватели воспользуются политическими средствами для защиты своих экономических выгод, – и все эти новые экономические факты будут следствиями предшествовавших им фактов политических»[14]. Правильно. Но здесь мы будем иметь перед собою именно типичный случай обратного действия политического «момента» на экономический, обусловивший собою его возникновение и характер. Такие случаи очень часты в процессе общественного развития, однако, ни один из них не подтверждает взгляда проф. Ключевского. Все они показывают не то, что в истории некоторых стран политический момент предшествует экономическому, а только то, что политические отношения, возникшие на известной хозяйственной подкладке, в свою очередь, влияют на дальнейшее развитие народного хозяйства. Но, – и в этом все дело, – так бывает не только там, где господствующий класс пользуется известными юридическими привилегиями; так бывает решительно всюду, где находятся на-лицо известные политические отношения. Так было между прочим и в новгородской республике, на которую сослался проф. Ключевский. Неоспоримо, что завоевание может обострить взаимные отношения общественных классов и придать много драматизма ходу общественного развития. Однако, не всегда придает. Завоевание Китая манчжурами не помешало внутренней истории этой страны оставаться мало драматичной вплоть до самого последнего времени. Большая или меньшая степень драматизма в общественной жизни зависит только от того, как много поводов для резких и ярких столкновений между различными общественными силами создается существующим общественным порядком.
А это определяется не тем, лежит или же не лежит в основе этого порядка завоевание. Внутренняя история Польши полна яркого драматизма. Потому ли это, что деление польского общества на классы явилось результатом завоевания? Мы еще не имеем права утверждать, что возникновение польского государства связано с завоеванием. Это вовсе не доказано. Проф. Ключевский не верно и не ясно представлял себе взаимное отношение между экономикой и политикой. Кроме того, он сильно преувеличивал историческую роль завоеваний. В этом отношении он еще не вполне освободился от влияния взгляда, господствовавшего у нас в тридцатых и сороковых годах и заимствованного нашими писателями у французских историков времен реставрации. Гизо, Ог. Тьерри, Минье и др., так правильно рассуждавшие о том, что политические учреждения должны быть следствием, прежде нежели сделаться причиной, не умели, однако, выяснить себе происхождение западно-европейского феодализма. Они не умели понять его, как следствие внутреннего развития «гражданского быта» Западной Европы, и потому целиком относили его на счет завоевания, т.-е. политического действия. Это было противоречием, в которое они попали вследствие тогдашнего недостатка в фактическом материале. Но теперь с этим противоречием давно пора кончить.
Глава V Взгляд С.М. Соловьева на роль завоевания и на значение географической среды в русской истории. – Некоторые методологические соображения этого историка
Уже С.М.Соловьев отдавал себе отчет в том, что завоевание далеко не об᾽ясняет всех относимых на его счет общественных явлений. «Много говорят о завоевании и незавоевании, – писал он, – полагают главное отличие истории русской от истории западных государств в том, что там было завоевание одного племени другим, а у нас его не было. Этот взгляд, по нашему мнению, односторонен; проводя параллель между западно-европейскими государствами и нашим русским, преимущественно обращают внимание на Францию, Англию, упуская из виду Германию и Скандинавские государства и ближайшие к нам государства славянские: здесь одно племя не было завоевано другим, и между тем история этих государств столько же различна от истории нашего, сколько различна от нее история Франции и Англии. Ясно, следовательно, что в одном отсутствии завоевания нельзя искать об᾽яснений главному различию»[15]. Это, в самом деле, как нельзя более ясно. Но теперь к приведенным мною соображениям С.М.Соловьева следует прибавить, что и в тех странах Запада, где завоевание несомненно имело место, оно далеко не так сильно и быстро повлияло на ход общественного развития, как это думали прежде. Возьмем одно из тех государств, в которых, по выражению М.П.Погодина, «все произошло от завоеваний», – Францию, эту классическую страну феодализма. Каковы были социальные последствия испытанных ею завоеваний?
«Перемены, внесенные нашествием варваров, – пишет Альфред Рамбо, – были менее значительны, чем это могло бы показаться сначала. Собственно говоря, не было завоевания Галлии германцами. Визиготы и бургунды вошли во владение своими провинциями именем императора, а Галлия... встретила Хлодвига скорее как друга, чем как врага. Нашествие не было ни насильственным, ни кровавым. За исключением северо-востока Галлии, где оно продолжалось несколько столетий, страна сохранила свой прежний вид. Визиготы были немногочисленны в бассейне Гаронны (их насчитывалось всего 200.000 при переходе через Дунай); еще менее многочисленны были бургунды в бассейне Роны (их было не более 80.000, когда Аэций водворил их в Савойе); франки составляли при Хлодвиге горсть воинов, а не иммигрирующую массу. Словом, германцы не могли изменить в большей части Галлии ни расы, ни языка»[16]. Нетрудно догадаться, что при таких условиях они неспособны были переделать экономический быт Галлии. «Они мало изменили положение жителей, – продолжает Рамбо, – у крестьян нельзя было отнять землю, так как она им не принадлежала, и так как нужно было сохранить их в качестве колонов[17]. Что касается собственников, то для них была мало чувствительна потеря части их земель, так как не все они подвергались обработке. Да эта часть и не была велика, потому что имелось достаточно такой земли, которая принадлежала государству и из которой можно было наделить визиготских, бургундских и франкских воинов»[18]. Не отрицая, что нашествие варваров оказало некоторое влияние на дальнейшее развитие общественно-государственных отношений, Рамбо настаивает, однако, на том, что франкская Галлия начала заметно отличаться от Галлии римской лишь двести или триста лет после Хлодвига[19]. Это едва ли можно оспаривать в настоящее время. Но в таком случае экономический «момент» имел вполне достаточно времени для того, чтобы вступить в свои права и определить собою весь характер всех возможных последствий германского нашествия. Вот почему надо признать основательными взгляды тех историков, которые отказываются теперь смотреть на это нашествие как на причину возникновения западного феодализма[20]. Все это приводит нас к следующему окончательному выводу: справедливо то мнение проф. Ключевского, что в России ход развития общественных классов во многом отличается от западно-европейского. Но он очень ошибался, об᾽ясняя относительное своеобразие этого хода тем, что на Западе политический «момент»
шел будто бы впереди экономического, тогда как в России господствовали смешанные процессы. Это об᾽яснение, греша значительной неясностью мысли, противоречит также историческим фактам. В действительности политический «момент» никогда и нигде не идет впереди экономического; он всегда обусловливается этим последним, что нисколько не мешает ему, впрочем, оказывать на него обратное влияние. С.М.Соловьев, совершенно справедливо полагавший, что завоевание совсем не имело того значения в истории развития западно-европейского общества, какое приписывается ему по устарелой привычке, с своей стороны давал историкам следующее методическое указание: «Резкое различие нашей истории от истории западных государств, – различие, ощутительное в самом начале, – не может об᾽ясняться только отсутствием завоевания, но многими различными причинами, действующими и в начале, и во все продолжение истории: на все эти причины историк должен обращать одинаковое внимание, если не хочет заслужить упрека за односторонность»[21]. По этому поводу приходится сделать несколько критических замечаний. Во-первых, как справедливо напоминал исследователям сам же С.М.Соловьев, и на Западе Европы завоевание имело место далеко не во всех странах, что не мешает, однако, всем западно-европейским странам обнаруживать в своем общественном развитии такие черты, которых мы напрасно искали бы в общественном развитии России. Во-вторых, даже и в тех западных странах, где завоевание, несомненно, имело место, как, например, во Франции, его влияние оказывается несравненно менее значительным, чем это думали прежде. Пусть читатель вспомнит, что говорит об этом А.Рамбо. В-третьих, еще М.П.Погодин, основавший на отсутствии у нас завоевания все свое противопоставление России Западу, вынужден был в своей полемике с П.В.Киреевским на страницах «Москвитянина» об᾽явить отсутствие это вовсе не таким полным, каким он сам же изобразил его прежде и продолжал изображать впоследствии, явно противореча самому себе. Если принять рассказ летописи о добровольном призвании варягов некоторыми славянскими и финскими племенами, то все-таки нельзя же отрицать, что многие другие племена были «примучены» этими пришельцами к покорности и что вообще пришельцы эти, нарубив в своем новом отечестве укрепленных стоянок, повели себя там, по выражению В.Ключевского, завоевателями. Этим и об᾽ясняется вдохновившее Княжнина, – тоже попавшее в летопись, – предание о бунте против Рюрика новгородцев под предводительством Вадима[22].
В-четвертых, всякий охотно признает правильность того мнения, что историк должен во избежание односторонности «обращать одинаковое внимание» на все причины, вызвавшие своеобразный склад наших общественно-государственных отношений. Но это правило слишком неопределенно. Да и едва ли оно осуществимо в своем буквальном смысле. Часто очень трудно, а иногда и совсем невозможно убедиться в том, что мы нашли все причины, содействовавшие возникновению данного явления. Но, с точки зрения метода, главное вовсе не в том, чтобы перечислить эти причины все до одной, а в том, чтобы определить те пути, по которым направлялось действие самых важных межу ними. Вот пример. Уже некоторые древние писатели принимали в соображение влияние географической среды на общественного человека. Но они ошибались, когда им нужно было определить, каким путем географическая среда способствует возникновению того или другого социально-политического строя. Они считали, что «климат», физиологически действуя на индивидуумов, составлявших данное общество, вызывает у них те или другие психические предрасположения, которыми, в свою очередь, определяется общественное устройство: так, климат Греции будто бы физиологически предрасполагал людей к свободным учреждениям, а климат Азии – к покорности перед монархами. Это античное учение о том, что климат определяет собою политический строй, непосредственно воздействуя на отдельных членов общества, перешло к писателям нового времени, – напр., к французским просветителям XVIII в. и к Боклю. Теперь его следует признать совершенно устарелым, так как теперь уже ясно, что «климат», т.-е. географическая среда влияет на отдельных членов общества главным образом, – чтобы не сказать: исключительно, – через посредство среды общественной: свойствами географической среды определяется более или менее быстрое развитие производительных сил, а от степени развития производительных сил зависит, в последнем счете, весь строй общества, т.-е. все свойства общественной среды, обусловливающие собою стремления, чувства, взгляды, словом, всю психику отдельных людей. Таким образом, влияние географической среды на этих последних, считавшееся когда-то непосредственным, на самом деле оказывается лишь косвенным. И только когда это было понято людьми науки, явилась возможность научного определения роли географического «момента» в ходе развития общественных отношений. Чтобы понять значение географической среды, необходимо было выяснить тот путь, по которому направляется ее действие на человеческие общества.
И так со всеми другими «моментами» исторического развития: действие их продолжает быть непонятным, – точнее сказать: понимается ошибочно, – пока не удается правильно определить путь этого действия.
Глава VI Критика взгляда С.M.Соловьева на роль дерева в истории Руси и роль камня в истории Западной Европы
Вопреки своему заботливому стремлению избежать односторонности, С. М. Соловьев иногда сам становился односторонним именно потому, что путь действия различных «факторов» исторического развития был для него неясен. Его соображения, – в конце первой главы первого тома, – о влиянии природы на народный характер очень поверхностны и на самом деле ровно ничего не об᾽ясняют. «Роскошная, щедрая природа, богатая растительность, приятный климат, – говорит он между прочим, – развивают в народе чувство красоты, стремление к искусствам, поэзии, к общественным увеселениям, что могущественно действует на отношения двух полов»[23]. Но стремление к поэзии у скандинавских народов или у англичан не менее сильно, чем у итальянцев или у испанцев, а стремление к искусству у эскимосов ничуть не слабее, нежели у краснокожих Бразилии. Взаимные отношения полов определяются ходом развития семейных отношений, который зависит от экономики страны, а не от ее географии. Мы знаем, правда, что экономика сама находится в причинной зависимости от географической среды, – так как эта последняя влияет на быстроту роста производительных сил. Но тут мы имеем перед собой случай посредственного влияния «природы», между тем как С.М.Соловьев говорит об ее непосредственном влиянии. Наконец, что касается общественных увеселений, то всякий народ любит их, пока ему живется хоть сколько-нибудь сносно и пока он не утрачивает привычки к ним вследствие развития крайнего индивидуализма, которое вызывается не природой, а опять-таки общественными отношениями. С.М.Соловьев приложил свои общие соображения о зависимости народного характера от природы страны «к историческому различию в характере южного и северного народонаселения Руси». После сказанного, надеюсь, ясно, что относящиеся к этому предмету выводы нашего историка не могли быть основательными. Полезнее остановиться на другой его попытке об᾽яснения исторических судеб русского народа свойствами географической среды. Я говорю об его знаменитом противопоставлении русского дерева западно-европейскому камню. Наш автор говорит, что путешественник, переезжающий из Западной Европы в Восточную и находящийся под свежим впечатлением внешнего различия, первую назовет каменной, а вторую – деревянной. По мнению С.М.Соловьева, такая характеристика будет вполне верной по отношению к внешнему виду этих двух частей Европы. «Камень – продолжает он, – так называли у нас в старину горы, – камень разбил Западною Европу на многие государства, разграничил многие народности,
в камне свили свои гнезда западные мужи и оттуда владели мужиками, камень давал им независимость; но скоро и мужики огораживаются камнем и приобретают свободу, самостоятельность; все прочно, все определенно, благодаря камню; благодаря камню, поднимаются нерукотворные горы, громадные вековечные здания»[24]. Слово «камень» употребляется здесь, – заметьте это, – в двух смыслах. Оно означает, во-первых, собственно камень, как строительный материал, во-вторых, – горы, всегда более или менее разнообразящие поверхность страны. Горы разбили Западную Европу на многие народности и государства, а строительный материал, ими доставляемый, сообщил прочность и определенность внутренним отношениям этих государств. На востоке Европы отсутствие «камня» вызвало прямо противоположные результаты. «На великой восточной равнине нет камня, – рассуждает С.М.Соловьев, – все ровно, нет разнообразия народностей, и потому одно небывалое по своей величине государство. Здесь мужам негде вить себе каменных гнезд, не живут они особо и самостоятельно, живут дружинами около князя и вечно движутся по широкому беспредельному пространству; у городов нет прочных к ним отношений. При отсутствии разнообразия, резкого разграничения местностей, нет таких особенностей, которые бы действовали сильно на образование характера местного народонаселения и делали для него тяжким оставление родины – переселение. Нет прочных жилищ, с которыми бы тяжело было расставаться... города состоят из деревянных изб, первая искра – и вместо них куча пепла. Беда, впрочем, невелика... новый дом ничего не стоит по дешевизне материала, отсюда с такою легкостью старинный русский человек покидал свой дом, свой родной город или село... Отсюда привычка к расходке в народонаселении и отсюда стремление правительства ловить, усаживать и прикреплять»[25]. В качестве строительного материала «камень» дал высшим классам Запада материальную возможность значительно обособиться от низших и тем самым обострил классовую борьбу. А в качестве гор «камень» оказал непосредственное влияние на характер западных народов, сообщив им стремление к усидчивости и определенности. Недостаток этого стремления у русского народа об᾽ясняется отсутствием у нас «камня». Где нет усидчивости и определенности, там взаимные отношения классов остаются неопределенными и неустойчивыми, вследствие чего их взаимная борьба не может достигнуть значительной степени напряженности. Такова мысль С.М.Соловьева. Но она не выдерживает критики. В качестве строительного материала камень отнюдь не всегда играл на Западе ту исключительную роль, которую приписывал ему С.М.Соловьев, Западная Европа тоже была некогда «деревянной». Не далее, как в X в., замки феодальных сеньеров представляли собой во Франции деревянные башни, окруженные рвом и изгородью, – конечно, тоже деревянной. Правда, уже в IX в. там
возникают, – преимущественно на юге, – каменные феодальные твердыни: но они начинают распространяться по всей стране только в X и в XI столетиях[26]. А ведь Франция, в самом деле, была классической страной феодализма. Когда же возникли феодальные отношения во Франции? Не пускаясь в неуместные здесь подробности, я скажу, что в X в. феодальный порядок уже сложился там в своих главных чертах. Ясно, стало быть, что не «камень» обеспечил французским «мужам» их торжество над «мужиками». Эти «мужи» начали строить себе «каменные гнезда» лишь после того, как им удалось наложить на «мужиков» свое иго. А города? В России они, по совершенно справедливому замечанию С.М.Соловьева, состояли из деревянных изб. Но из каких же построек состояли города средневекового Запада? Очень нередко тоже из деревянных. И притом – какие города! Одно из дошедших до нас постановлений насчет заработной платы средневековых ремесленников показывает, что не позже, как в начале XIII века, Лондон был почти исключительно деревянным городом. И само собою разумеется, что на Западе деревянные постройки были так же мало огнеупорны, как в России: они и там, как у нас, часто превращались в «кучки пепла». Только-что упомянутое постановление насчет заработной платы относилось, собственно, к плотникам и было вызвано тем, что, по мнению остальных граждан, они сделались слишком требовательными после пожара, истребившего в 1212 г. значительную часть деревянного тогда Лондона[27]. Французские и германские города тоже состояли по большей части из деревянных домов. «В городах, в противоположность селам, находим дома на каменном фундаменте, хотя самое здание в течение всего средневековья еще строилось из дерева; крыша из кирпичей распространяется также лишь постепенно. В Гамельне, в Ньюпорте, в Амиене и даже во Фландрии находим соломенные крыши; в Геттингене магистрат выдавал тому, кто заменял солому кирпичами, четвертую часть расходов»[28]. Итальянские города, повидимому, всегда были гораздо более богаты каменными домами. Но это исключение из общего правила, – если оно действительно существовало, – разумеется, ни мало не подтверждает собою мысли Соловьева: если деревянные города Англии, Франции и Германии шли в своем историческом развитии не теми же самыми путями, какими шли тоже деревянные города России, то очевидно, что «дерево» ровно ничего не об᾽ясняет в этом различии. Это не все. Города Литовской Руси тоже были деревянными[29], а их историческая
судьба не похожа ни на судьбу, например, французских городов, ни на судьбу городов Московской Руси: новое доказательство того, что «дерево» или «камень» не при чем в исторических особенностях этого рода. Наконец, Соловьев позабыл, что «громадные вековечные здания» воздвигаются не только из камня. В Бельгии и в Голландии их строили из кирпича. Но само собою понятно, что их начали строить там только тогда, когда общественное развитие вызвало потребность в них и дало экономическую возможность ее удовлетворения. Говоря вообще, западно-европейские города превращались из деревянных в каменные (или кирпичные) лишь по мере того, как росли находившиеся в распоряжении их жителей производительные силы и увеличивалось их экономическое благосостояние. Поэтому вполне позволительно думать, что если бы русские города богатели так же быстро, как западно-европейские, то и в них дерево постепенно уступило бы место камню. Самые богатые города до-монгольской Руси, Киев и Новгород, были богаче других каменными постройками. В Киеве считалось более 12 каменных церквей[30]. Впоследствии Москва училась каменному делу именно у Новгорода, пока не догадалась обратиться к западно-европейским мастерам. Не в отсутствии камня заключалась причина, остановившая развитие Новгорода, а равно и Киева. С.М.Соловьев не так сильно ошибся в своем взгляде на «камень», понимаемый в смысле гор. Однако, и тут он все-таки неправ. То правда, что горы разграничивают одно от другого первобытные племена и тем препятствуют слиянию их в одну народность. Но и это положение должно быть принимаемо с весьма существенными оговорками. «Камень» все-таки не помешал различным народностям Запада вступать в весьма оживленные взаимные сношения. Развитие этих сношений тоже определяется в последнем счете ходом экономического развития, которое зависит от географической среды лишь в той мере, в какой она благоприятствует развитию общественных производительных сил. С.М.Соловьев и здесь предполагал непосредственное влияние географической среды, тогда как и здесь надо говорить преимущественно об ее посредственном влиянии. Вот почему его гипотеза и не выдерживает критики фактов. На западе Европы нет страны более гористой, чем Швейцария. Однако, феодальная зависимость «мужиков» от «мужей» никогда не приобретала в ней такой прочности и таких широких размеров, как на «ост-эльбской» равнине. Другой пример. Литовская Русь занимала часть той же восточной равнины, которую С.М.Соловьев называет деревянной страной. Но если мы сопоставим ее внутренние отношения с отношениями Московской Руси, то увидим, что они несравненно меньше походят на них, скажем, в XVI в., чем на отношения западноевропейских стран. Правда, можно сказать, – а нередко и говорят, – что Литовская
Русь выработала свои внутренние отношения под влиянием Польши, т.-е. того же Запада. Польское влияние в Литве было в самом деле очень сильно. Но об᾽ясняет ли оно весь, без остатка, склад ее внутренних отношений? Нет, и это по весьма понятной причине: влияние одной страны на склад внутренних отношений другой возможно только тогда, когда в этой последней уже находятся на-лицо такие общественные элементы, которым выгодно взять на себя роль его проводников. Ниже мы еще увидим, почему некоторые классы населения Западной Руси так охотно сделались проводниками польского влияния. А теперь мы должны вернуться к С.М.Соловьеву.
Глава VII Правильная сторона взгляда С.М.Соловьева на роль географической среды в истории русского общественного развития
Его рассуждения о влиянии климата, «камня» и «дерева» весьма неудачны. Но в его большом труде все-таки встречаются совершенно правильные мысли о том, как влияла географическая среда на общественное развитие нашего отечества. Нам необходимо внимательно вдуматься в эти совершенно правильные мысли. В первой главе своего первого тома он, отметив однообразный характер восточно-европейской равнины, говорит: «Однообразие природных форм исключает областные привязанности, ведет народонаселение к однообразным занятиям; однообразность занятий производит однообразие в обычаях, нравах, верованиях; одинаковость нравов, обычаев и верований исключает враждебные столкновения; одинакие потребности указывают одинакие средства к их удовлетворению, – и равнина, как бы ни была обширна, как бы ни было вначале разноплеменно ее население, рано или поздно станет областью одного государства: отсюда понятна обширность русской государственной области, однообразие частей и крепкая связь между ними»[31]. С точки зрения метода, это рассуждение тоже нельзя признать безукоризненным. Наш историк повторяет тут ошибку большинства исследователей, раньше его писавших о значении географической среды в ходе народного развития: он тоже прежде всего старается определить, какие психические расположения должны были вызываться этой средой. Лишь после этого он указывает на те занятия и вообще на тот образ жизни, который обусловливался, по его мнению, этими предрасположениями. Это – метод исторического идеализма: бытие об᾽ясняется сознанием, несмотря на то, что за точку исхода всего рассуждения берутся известные материальные условия существования, – в данном случае свойства поверхности восточной половины Европы. Но идеалистический метод так неудовлетворителен сам но себе, что, когда исследователи, к нему прибегающие, не ограничиваются словами, а в самом деле пытаются найти взаимную связь общественных явлений, они покидают его и на-время делаются материалистами, т.-е. об᾽ясняют сознание бытием[32]. Этой
методологической непоследовательности ученых общественная наука обязана многими очень важными открытиями. С.М.Соловьев тоже не верен здесь своему идеалистическому методу; но и у него эта неверность дает хороший теоретический результат. Сказав несколько слов о психических предрасположениях русского племени, будто бы непосредственно вызываемых географической средой, он немедленно переходит от них к соображениям о том, как должно было повлиять однообразие природных форм на занятия и образ жизни этого племени. Иначе сказать: от попытки об᾽яснить бытие сознанием он быстро, – хотя, как это видно по всему, сам того не замечая, – переходит к об᾽яснению сознания бытием. И тут мы узнаем от него, что однообразие природных форм ведет к однообразию занятий, а однообразие занятий производит однообразие обычаев, нравов, потребностей и верований, причем однообразие потребностей указывает одинакие средства к их удовлетворению и т.д. Это – очень ценные мысли, до сих пор слишком мало принимаемые в соображение теми писателями, которые задумывались о причинах относительной самобытности русского исторического процесса. Представим себе, что данная клеточка разделилась, как это нередко происходит, на две клеточки-дочери, эти последние разделились на четыре клеточки-внучки, клеточки-внучки породили каждая по две правнучки и т.д., и т.д. Число клеточек растет в геометрической прогрессии, причем ни одна из них не ведет совершенно отдельного от других существования. Что у нас получается? Получается известная совокупность клеточек, живая ткань, но не сколько-нибудь сложный организм. Чтобы получился такой организм, процесс размножения клеточек должен был бы сопровождаться процессом их дифференциации: без дифференциации нет развития в природе. Теперь предположим, что мы имеем дело с общиной земледельцев, находящейся в ровной, со всех сторон открытой и ненаселенной местности. Когда наша община почувствует «земельную тесноту», вследствие возрастания числа еe членов, тогда часть их покинет свою деревню и образует новый поселок. Когда он увеличится настолько, что ему уже недостаточно будет окружающей его земли при старых приемах сельского хозяйства, он тоже выселит «на новые места» часть своих жителей. «На новых местах» повторится та же история и т.д., и т.д. Пока не истощится запас «порозжих земель», каждая деревня будет прибегать к выселению всякий раз, когда число ее членов достигнет известного предела. Что же получится? Получится много деревень, обрабатывающих землю с помощью старых приемов. Заселенная таким образом местность окажется, может быть, довольно зажиточной, но уровень ее экономического развития будет все-таки очень низок. Однообразие естественных условий и связанное с ним однообразие занятий замедляет повышение этого уровня, вследствие чего задерживается также и духовное развитие жителей. Маркс говорит: «Не абсолютное плодородие почвы, а ее дифференцирование, разнообразие ее естественных произведений составляет естественную основу разделения труда и заставляет человека, в силу разнообразия окружающих его естественных условий, разнообразить свои собственные потребности, способности,
средства и способы производства»[33]. Однообразие естественных условий, характеризующее собою восточную европейскую равнину, было неблагоприятно прежде всего для успехов ее населения в области экономического развития. Но мы знаем, что экономическое развитие определяет собою развитие общественно-политическое и духовное. Поэтому с указанием С.М.Соловьева на «природные условия», вызвавшие однообразие занятий, непременно должен считаться всякий, кто желает выяснить себе ход русского общественного развития. Но это не все. «Великая равнина, – продолжает наш историк, – открыта на юго-востоке, соприкасается непосредственно с степями Средней Азии, толпы кочевых народов с незапамятных пор проходят в широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем и занимают привольные для них страны а. низовьях Волги, Дона и Днепра... Азия не перестает высылать хищные орды, которые хотят жить на счет оседлого народонаселения: ясно, что в истории последнего одним из главных явлений будет постоянная борьба со степными варварами»[34]. Как же повлияла эта продолжительная борьба с кочевниками на внутреннее развитие России? С. М. Соловьев делает лишь некоторые намеки на решение этого важного вопроса. Сам он не принадлежал к числу тех историков, которые приписывали борьбе с кочевниками решающее влияние на судьбу русского племени. Известно его замечание о татарах: «татары (после покорения Руси. – Г. П.) остались жить вдалеке, заботились только о сборе дани, нисколько не вмешиваясь во внутренние отношения, оставляя все, как было»[35]. Но другие кочевые народы, – предшествовавшие татарам в своих столкновениях с русским племенем, – еще меньше татар «вмешивались во внутренние отношения». Поэтому мы должны понимать С. М. Соловьева в том смысле, что все эти другие кочевники еще более, чем татары, «оставляли все, как было». А если это так, то в чем же сказалось влияние борьбы с кочевниками на внутреннюю историю России? Соловьев признавал, как видно, что, оставляя «все, как было», кочевники, своим влиянием, замедляли или ускоряли естественное развитие внутренних отношений русского общества. «Мало того, что степняки, или Половцы, сами нападали на Русь, – говорит он, – они отрезывали ее от черноморских берегов, препятствовали сообщению с Византиею. Русские князья с многочисленными дружинами должны были выходить навстречу к греческим купцам и провожать их до Киева, оберегать от стенных разбойников; варварская Азия стремится отнять у Руси все пути, все отдушины, которыми та сообщалась с образованною Европою»[36]. Но если это так, то очевидно, что кочевники повлияли на нашу внутреннюю историю прежде всего, – и, может быть, главным образом, – тем, что замедлили наше экономическое развитие. К сожалению, С. М. Соловьев не останавливается на рассмотрении этого важного вопроса. Говоря о поражении Витовта Темир-Кутлаем и Эдигеем на берегах Ворсклы, он замечает: «Татары победили; но какие же были последствия этой победы? –
опустошение некоторой части литовских владений, – и только!»[37]. Это замечание характерно для его, разбираемого здесь, взгляда. Он, подобно Карамзину, имел в виду преимущественно историю государства, и там, где события не оказывали заметного непосредственного влияния на государственное устройство или на отношение государства к соседям, – в только-что указанном случае на отношение Великого Княжества Литовского в Орде, – он готов был умалять их историческое значение. Кочевники «только» опустошали Русь или брали с нее дань. Поэтому С. М. Соловьев говорит, что они оставляли все, как было. Но если опустошения задерживали внутреннее развитие того, что было, то они тем самым могли придать этому развитию новое направление, более или менее отличное от того, которое оно получило бы при другом историческом соседстве. Конечно, разница в быстроте развития есть лишь количественная разница. Но, постепенно накопляясь, количественные различия переходят, наконец, в качественные. Кто знает? Может быть, опустошая Русь и, стало быть, замедляя рост ее производительных сил, хищные номады способствовали возникновению и упрочению известных особенностей и в ее политическом строе. Вот почему внимательнее следовало рассмотреть вопрос об экономических и общественно-политических последствиях борьбы оседлого населения восточной равнины со своими кочевыми неприятелями.
Глава VIII Производительная деятельность Юго-западной Руси в течение Киевского периода. – Критика взгляда В.А.Келтуялы
Чем больше растут производительные силы, находящиеся в распоряжении данного общества, тем выше поднимается оно по лестнице экономического развития. Чем выше поднимается оно по лестнице экономического развития, тем успешнее отстаивает оно свое существование в борьбе с соседями. «Победа основывается на производстве оружия, – говорит Энгельс, оспаривая Дюрингову «теорию насилия», – а последнее, в свою очередь, на производстве вообще, следовательно на «экономической силе», на «экономическом положении», на материальных средствах, которым может располагать сила»[38]. Но если это верно, – а это вполне верно, – то чем же об᾽яснить тот факт, что земледельцы, населявшие восточную европейскую равнину, так долго не могли справиться с кочевниками, проникавшими в нее из Азии через «широкие ворота между Уральским хребтом и Каспийским морем»? Ведь в экономическом отношении земледельцы выше кочевников. В настоящее время вопрос этот, как видно, сильно интересует тех из наших исследователей, которые придерживаются материалистического об᾽яснения истории. Но надо сознаться, что они решают его, к сожалению, не всегда удачно. Так, В. А. Келтуяла недавно высказал ту мысль, что до половины XIII в. преобладающим у нас занятием была охота и связанная с нею торговля, между
тем как татары были скотоводами. Скотоводство выше охоты. Оно требует лучшей организации общественных сил. «Поэтому общественно-политические организации, в основе которых лежит скотоводство, обыкновенно сильнее организаций, основанных на охоте». Этим и об᾽ясняет почтенный автор тот факт, что «охотничье-торговое государство, основавшееся на великом водном пути, потерпело окончательное поражение от скотоводцев-кочевников»[39]. Выходит, что С. М. Соловьев был неправ, называя печенегов, половцев и татар азиатскими варварами. А если и прав; если эти азиаты все-таки могут быть названы варварами, то мы должны помнить, что на восточно-европейской равнине им противостояли русские дикари-охотники, еще более низкие по своему экономическому и общественному развитию. В виду этого подчинение русских монголам представляется простым и понятным следствием экономического превосходства этих последних: мы уже знаем, что победа предполагает производство оружия, а производство оружия основывается на производстве вообще, на материальных средствах, находящихся в распоряжении тех, которые побеждают. Однако, это об᾽яснение плохо мирится с общеизвестными историческими фактами. Вспомним рассказ летописца о переговорах Ольги с древлянами. Она посылает сказать жителям Коростеня: «чего хощете досƀдƀти? А вси ваши города передашася мнƀ, и ялися по дань, и дƀлаютъ нивы своя и землю свою, а вы хощете голодомъ измерети» и проч.[40]. Можно ли предположить, что этот рассказ возник в «охотничье-торговом государстве»? Ясно, что нет. Он возник в среде земледельцев, дорожащих возможностью «делать нивы своя и землю свою»[41]. А он вовсе не представляет собою чего-нибудь исключительного. Белгородцы, осажденные в 997 г. печенегами и доведенные ими до крайности, уже хотели сдаваться, но один старик придумал хитрость. Он посоветовал своим согражданам: «сберите по горсти овса, или пшеницƀ, или отробъ». Когда они исполнили его совет, он приказал женщинам сделать кисель, вылил этот кисель в кадку и опустил кадку в колодезь. В другой колодезь была спущена кадка с медовой сытою. Потом он послал за печенегами и сказал им: «Почто губите себƀ. Коли можете перестояти насъ? аше сидите 10 лƀтъ, что можете створити намъ? имƀемъ бо кормлю отъ земли; аще ли не вƀруете, да видите своими очима». Печенеги поверили тому, что белгородцы «имƀют кормлю от земли», и сняли осаду[42]. Этот рассказ тоже мог сложиться лишь в народе, который, по яркому выражению, вложенному летописцем
в уста хитроумного белгородского Улиса, получал свою «кормлю» именно «от земли»[43]. Не менее характерен и рассказ о том, как Владимир Мономах уговаривал Святополка итти «на поганыхъ» (т.е. на половцев). «И начаша глаголати дружина Святополча: «не веремя веснƀ воевати, хочешь погубити смерды, и ролью имъ». И рече Володимеръ: «дивно ми, дружино, оже лошади кто жалуетъ, ею же ореть кто; а сего чему не разсмотрите, оже начнеть смердъ орати, и Половчинъ приƀха ударить смерда стрƀлою, а кобылу его поиметь, а въ село въƀхавъ поиметь жену его и дƀти, и все имƀнье его возьметь?» и т.д. Этот довод произвел такое впечатление, что «не могоша противу его отвƀщати дружина Святополча»[44]: она, как видим, хорошо понимала, до какой степени полезно дать смерду возможность спокойно пахать свое поле. Охотники плохо понимают это по той простой причине, что они не пашут, да и нет смердов между ними. За десять лет до этого совещания князей торки, осажденные половцами, поедали сказать Святополку: «аще не пришлеши брашна (т.е. хлеба. – Г. П.), предатися имамы»[45]. Это известие еще не доказывает, конечно, что к тому времени сами торки[46] уже сделались земледельцами. Но их просьба о присылке хлеба вполне убедительно свидетельствует о том, что они имели дело с политическим представителем местности, населенной преимущественно земледельцами. И замечательно, что летописец, жалуясь на опустошения, произведенные тогда половцами, выступает перед нами идеологом именно земледельческого племени: он на первом месте отмечает, что «лукавии сынове Измайлове пожигаху села і гумна»; сожженные церкви идут в его повествовании лишь после гумен и сел[47]. Уже в то отдаленное время главную пищу русского народа составляли продукты земледелия. «В Печерском монастыре XI в., – говорит проф. Мих. Грушевский[48], – обычной пищей был хлеб (главным образом ржаной), сочиво (вареный горох и другие стручковые овощи), либо каша, вареные и приправленные растительным маслом огородные овощи; в скоромные дни ели сыр, в постные – рыбу, но последняя являлась уже лакомством... Хлеб считался более изысканною пищей, чем сочиво, а на самом конце, как самая последняя еда стояли вареные «городные продукты». По мнению проф. Грушевского, это монастырское меню дает нам представление о том, чем питались тогда беднейшие слои населения: «хлеб, каша и вареные овощи (по всей вероятности, что-то в роде щей) были в то время, как и в наше, главной пищей населения», хотя оно и потребляло больше мяса, нежели теперь[49].
К этому необходимо прибавить, во избежание недоразумений, что земледелие, составлявшее главное занятие русского народа в течение киевского периода, далеко не было тем первобытным ковырянием почвы, каким занимаются или занимались, на-ряду с охотой, некоторые дикие племена Африки и обоих Америк. Употреблявшиеся тогда земледельческие орудия, – например, плуг и борона, – указывают на значительно более высокую технику, предполагающую употреблений в работу домашних животных (лошадей или волов). По словам В.А.Келтуялы, – труд которого, несмотря на некоторые частные заблуждения, все-таки поистине замечателен, – охота, в течение многих тысячелетий господствовавшая среди русского населения, наложила на его психику определенный характер[50]. Это так: разумеется, наложила; но земледелие наложило затем еще более заметный характер. Когда? Еще в языческую эпоху, т.е. очень, задолго до монголов. Это легко доказать фактами, которые во множестве собрал сам г. Келтуяла в первой части своего замечательного труда. Возьмем так-называемые калядские песни. В курсе г. Келтуялы они делятся на две группы: к первой относятся песни, сохранившие на себе явные следы языческих представлений; ко второй – песни, разрабатывающие христианские мотивы. Первая группа, очевидно, более древняя. Что же слышим мы о ней от г. Келтуялы? Вот что: «Среди калядских песен первой группы особенно интересны те, которые носят аграрный характер. В одной песне поющий приглашает хозяина встать и посмотреть, как Господь ходит по двору и приготовляет плуги и волов; далее поется о том, что Господь приготовляет коней, ходит на току, кладет снопы в три ряда, пшеницу – в четыре, устраивает пчеловодство и готовит пиво»[51]. Это, без малейшего сомнения, психика земледельческого народа. Охотничьи племена распевают другие песни. Вот, например, австралиец поет: «Кенгуру был жирен, а я его с᾽ел». Тут дело ясное: в этой песне, очевидно, отражается охотничья психика. Сам г. Келтуяла прибавляет, что образ бога, подготовляющего земледельческую работу, повидимому, представляет собою отражение языческого Дажь-бога. Но что такое Дажь-бог? «У Сварна есть дети: Дажь-бог (Дай-богатство) – это солнце (другое название этого бога: Хорс); это – бог, который должен был приобрести большое значение у той части славянства, которая по преимуществу стала заниматься скотоводством и земледелием»[52]. А каково было значение Дажь-бога у русских славян? Вот каково. Слово о полку Игореве, памятник, относящийся, как это всем известно, к христианскому периоду, называет русский народ Дажь-божьим внуком (»Возстала обида въ силахъ Дажь-божья внука» и т.д.). Стало-быть – очень велико. А это обстоятельство опять говорит вовсе не о психике охотничьего
племени. Не менее замечательно еще и то обстоятельство, что, жалуясь на опустошения, производимые княжескими усобицами, Слово о полку Игореве говорит: «тогда по русской землƀ рƀдко кричали пахари, но зато часто каркали вороны «и т.д.». Оба эти обстоятельства отмечены самим г. Келтуялой[53]. А другие песни? Послушаем того же ученого. «За стол садятся гадающие, которые кладут около блюда свои кольца... Затем поется ряд песен, получивших по имени блюда название подблюдных. Первая песня посвящается хлебу и соли. Но окончании ее кладут кольца, перстни, хлеб, соль и угольки на блюдо и поют следующие песни: «Катилося зерно по бархату», «Идет кузнец из кузницы и др.». И опять сам г. Келтуяла прибавляет: «Главным предметом гаданий в глубокой древности было, повидимому, богатство в зависимости от развития силы Дажь-бога», т.-е. бога земледелия[54]. А вот песни, называемые веснянками. В одной из них «просят весну явиться с радостью, с великою милостью, с высоким льном, с глубоким корнем, с обильными хлебами». В другой спрашивают весну, на чем она приехала: «на сошечке, на бороночке, на овсяном снопу, на ржаном колосу?»[55]. Из хороводных песен наиболее замечательна, по мнению г. Келтуялы, песня, изображающая сеяние проса в связи с выбором невесты. «Она представляет диалог между девушками и парнями. Девушки поют про то, как они просо сеяли. Парни отвечают, что они просо это вытопчут»[56]. Подобные песни часто встречаются и у других земледельческих народов. У некоторых племен Малайского архипелага существуют довольно сложные пляски, изображающие сеяние проса в действиях и в песнях. Все это, конечно, очень ярко иллюстрирует ту мысль, что не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание. Но в том-то и дело, что бытие, отразившееся в песнях этого рода, было бытием земледельцев, а не охотников. Впрочем, здесь полезно оговориться. Тот, сообщаемый хороводной песнью, факт, что просо сеяли девушки, между тем как парни грозят его вытоптать, позволяет предположить такую эпоху в жизни русских славян, когда земледелием занимались женщины, между тем как мужчины оставались охотниками. Такое разделение общественного труда до самого недавнего времени существовало у некоторых племен центральной Бразилии. В психологии таких племен всегда сильно сказываются черты охотничьего быта. Г. Келтуяла указывает также на жатвенные праздники. Он говорит, что во второй половине июля у славян-язычников был праздник в честь Перуна, бога грома. «С его именем связывались благодетельные для плодородия грозы, которыми обыкновенно отличается эта часть июля, и начало жатвенных работ»[57]. Довольно. Прибавлю еще только, что, по свидетельству г. Келтуялы, русские пословицы, касающиеся хозяйственных занятий, «отражают главным образом
земледельческий труд»[58]. После всего этого мы можем уже не сомневаться в том, что именно этот труд наложил наиболее глубокую печать на психику русского народа. Это нужно хорошенько запомнить, так как ниже нам еще придется считаться с вопросом о том, где лежала главная пружина хозяйственной жизни русского народа в течение киевского периода его истории. С ошибочным решением этого вопроса связано много ложных представлений о ходе нашего общественно-политического развития.
Глава IX Натиск кочевников на земледельческое население, Руси Киевского периода. – Экономические, социальные и политические последствия этого натиска
Итак, историческая истина совсем не на стороне В.А.Келтуялы, а на стороне С.М.Соловьева: в сравнении с русским населением киевского периода кочевники являлись племенами, стоявшими на менее высокой степени экономического, а стало быть и вообще культурного развития. И напрасно г. Келтуяла, – да и не он один, – смущается тем, что скотоводы-татары покорили русских земледельцев. Этот факт так же мало противоречит материалистическому объяснению истории, как движение вверх шара, наполненного газом, более легким, нежели атмосферный воздух, опровергает теорию тяготения. В каждом из этих двух случаев перед нами лишь мнимый парадокс. Дело в том, что движение человечества по пути культуры вовсе не есть прямолинейное движение. С переходом на более высокую степень экономического развития данное племя (или государство), разумеется, делает более или менее значительный шаг вперед. Но не во всех отношениях. Известные стороны его быта могут попятиться назад именно благодаря тому, что оно сделало шаг, – говоря вообще, – прогрессивный. Вот яркий пример. Как известно, охотничьи племена обнаруживают несравненно больше склонности и. главное, способности к пластическим искусствам, нежели племена, занимающиеся скотоводством и первобытным земледелием. И точно также нынешняя буржуазная Европа, обладающая такими могучими производительными силами, очень и очень много уступает античному миру в эстетическом отношении. В мою задачу никак не входит здесь рассмотрение тех причин, которыми вызываются только-что указанные явления. Достаточно сказать, что причины эти тоже коренятся в новых условиях, создаваемых новыми техническими завоеваниями и связанными с ними переменами в образе жизни[59]. Но о кочевниках уместно сказать еще несколько слов. Уже в книге покойного Н.Зибера «Очерки первобытной экономической культуры», вышедшей первым изданием в 1883 г., встречается интересный анализ экономических и бытовых условий, породивших идею монгольской всемирной империи. Излагая взгляд одного английского писателя, Н.Зибер указывает на то, что самый образ жизни кочевых народов не располагает их к миру. «У странствующих народов, не имеющих никаких постоянных границ, – говорит он, – не может
недоставать поводов к войне, так как они постоянно вторгаются в границы пастбищ один другого. Таким образом возникают случаи предательской войны»[60]. Затем он отмечает их выносливость и ту легкость, с которой они мобилизуют свои военные силы. «Их суровость и крепость дают им возможность выдерживать усталость от продолжительных странствований, лишений и изнурений. Подобная община пастухов не нуждается ни в каком коммисариате. Пища их в виде мяса их быков или лошадей, которые привыкли есть одну только траву, может всегда пропитать их на пути. ...Их безразличие к жизни делает излишнею всякую предусмотрительность относительно заботы о больных и раненых... Их военная жизнь, включающая продолжительные странствования и возвращения и истощающая в корень другие войска, мало отличается от их обычаев во время мира... Победа воспламеняла их... поражение смиряло на-время их дух, но они всегда имели открытое отступление в бесконечную пустыню, где они могли, по меньшей мере, спастись от мести цивилизованных наций»[61]. Уже эти строки в значительной степени об᾽ясняют нам военные успехи кочевников. Но Зибер не ограничился ими. Опираясь на того же английского писателя, он утверждал, что опустошительные набеги, которым предавались кочевые народы, были для них своего рода необходимостью, особенно в тех случаях, когда им удавалось достигнуть господства. «Когда их первые успехи привлекали большое число лиц к победному знамени, то удержать в неподвижном положении такую громадную массу не было возможности. Прежде всего их пастбища скоро были бы истощены, а, во-вторых, их вожди могли поддерживать свое достоинство и свое высокое положение над единоплеменниками только при помощи активных операций. Иностранные войска, широко входящие в состав их армий, были всегда готовы отпасть от насильственного союза. Всякий признак слабости или неспособности вождя сделался бы знаком общего распадения»[62]. К этому надо прибавить следующее. Если мы сравним вооружение оседлых русских племен, скажем, X или XI в. с вооружением тех кочевников, натиск которых им пришлось отражать, то увидим, что превосходство первого над вторым очень невелико, а, пожалуй, даже сомнительно. Мечу пешего русского воина противостоит сабля кочевого всадника. Уступает ли сабля мочу, как орудие нападения или самозащиты? Предположим, что – да. Но факт тот, что и русские-воины нередко предпочитали саблю мечу, а в XII в., судя по «Слову о полку Игореве», сабли даже преобладали, так как «выгнутою саблею удобнее рубить, чем прямым мечем»[63]. Удобнее, конечно, только для всадника, но в тогдашнем русском войске конница уже играла очень важную роль, которая с течением времени становилась еще более важной. Стало быть, со стороны вооружения трудно предположить какое-нибудь серьезное превосходство тогдашних (русских) земледельцев над номадами. Достойно замечания, что если русские воины заимствовали
оружие у номадов, то цивилизованные римляне не раз делали подобные заимствования у тех варваров, с которыми им приходилось вести войны. Вообще в этом отношении, как и во многих других, расстояние, отделяющее цивилизацию от варварства, первоначально совсем незначительно и растет лишь мало-по-малу, но с постоянно и сильно возрастающим ускорением[64]. Наконец, – и на это необходимо обратить большое внимание, – переход к земледелию вызывает со временем такое разделение общественного труда, которое является источником относительной слабости земледельцев с военной стороны. У номадов все или почти все взрослые мужчины – воины; у земледельцев военное дело становится занятием лишь некоторой части общества, например, в Киевской Руси – князя и его дружины. Правда, кроме княжеской дружины, повременам созывается также и народное ополчение. Но созывы ополчения все-таки представляют собою нечто исключительное и, кроме того, становятся все реже и реже[65]. Владимир Мономах хорошо изобразил обычное положение дел: смерд пашет, а князь с дружиной охраняет его от неприятельских набегов. При таком положении дел есть только одно условие победы земледельцев над кочевниками: объединение первых в один большой политический союз, а в ожидании его – сочетание усилий всех тех отдельных политических союзов, на которые распадается земледельческое население данной территории. Вот почему все русские идеологи киевского периода так решительно и единодушно осуждают княжеские усобицы: «почто вы распрю имата межи собою? – говорят Святополку «мужƀ смысленƀи», – а погании губять землю Русскую; послƀдƀся смирита, a нынƀ поидита противу имъ (т.е. против половцев. Г. П.) любо съ миромъ, любо ратью» (ср. красноречивые жалобы на княжеские усобицы в «Словƀ о полку Игореве»). И по той же причине так сильно было впоследствии сочувствие русского народа к об᾽единительной политике московских, – а на западной половине русской территории литовских, – великих князей. Интересно, что Казань и Астрахань пали только тогда, когда окончательно об᾽единилась восточная Русь. Все это показывает, что мы имеем возможность об᾽яснить победу кочевников над киевской Русью, не прибегая к совершенно несостоятельной гипотезе «охотничье-торгового государства». Теперь посмотрим, каковы были последствия многовекового натиска скотоводов-кочевников на земледельцев, населявших восточную европейскую равнину. Во-первых, он помешал русскому населению придвинуться вплотную к
берегам Черного моря и даже заставил его отступить на север и на северо-запад[66]. Это вынужденное отступление от морских берегов должно было замедлить экономическое развитие Руси. Во-вторых, оттеснивши Русь от берегов Черного моря, кочевники продолжали нападать на ее торговые караваны, затрудняли ее сношения с Крымом и Византией, чем создавали новью препятствия для ее экономического развития. В-третьих, периодически опустошая территорию оседлого русского племени, они мешали его росту благосостояния. «Непрекращающиеся набеги на города и селения, жившие среди вечной тревоги на военном положении; захват пленников во время набегов в громадном количестве, причем работоспособные продавались в крымских портах в неволю в чужие страны, а все непригодные к работе и на продажу безжалостно убивались; уничтожение целых селений, и в результате – бегство населения и запустение целых областей», – так изображает историк тогдашнюю жизнь в местностях, доступных нападениям кочевников[67]. Нечего и говорить, что такая жизнь мало благоприятствовала накоплению богатства. Правда, верхи тогдашнего русского общества как-будто располагали довольно большими денежными средствами[68]. Однако, в его низах должно было возникнуть много элементов, лишенных всякой возможности вести самостоятельное хозяйство. Эти элементы попадали в зависимость от лиц, обладавших денежными средствами. Ростовщический капитал подчинил своей власти значительную часть тогдашнего трудящегося населения[69]. Но господство ростовщического капитала, в свою очередь, весьма неблагоприятно для развития производительных сил страны, так как он в огромном большинстве случаев довольствуется присвоением прибавочного продукта и совсем не изменяет способа производства[70]. В XII в. Поднепровье заметно беднеет. В 1159 г. черниговский князь Святослав Ольгович дает знаменательный ответ великому князю Изяславу Давидовичу: «Взялъ я городъ Черниговъ с семью другими городами, да и то пустыми: живутъ въ нихъ псари да половцы». Проф. Ключевский истолковывает эти слова Святослава в том смысле, что «в этих городах остались лишь княжеские дворовые люди да мирные половцы,
перешедшие на Русь»[71]. И это происходит в то время, когда в передовых странах Западной Европы, – в Италии, во Франции и во Фландрии, – города быстро росли и богатели[72]. В конце концов кочевники, в лице татар, совсем остановили самостоятельное развитие юго-западной Руси и вызвали передвижение центра тяжести русской исторической жизни на северо-восток, где географическая среда оказалась еще менее благоприятной для быстрого роста производительных сил населения. Чем быстрее растут производительные силы данного общества, тем быстрее бьется пульс его экономической жизни и тем более обостряются противоречия, свойственные господствующему в нем способу производства. А обострение этих противоречий обнаруживается между прочим в обострении классовой борьбы, которая, принимая тот или другой вид, всегда ведется во всяком обществе, разделенном на классы. Своим обострением борьба классов и придает внутренней истории общества тот боевой характер, который приурочивается проф. Ключевским к завоеванию и она же сообщает общественным учреждениям «резкие очертания». И не только общественным учреждениям. «Спор есть отец всех вещей», – говорил глубокий эфесский мыслитель. Обострившаяся борьба классов углубляет ход идей и учащает их взаимные столкновения. Таким образом, если географическая среда оказалась неблагоприятной для экономического развития Руси уже в Приднепровья, то мы можем ожидать, что в течение киевского периода ее история заметна будет некоторая неопределенность ее общественных отношений и некоторая вялость ее общественной мысли. Рассмотрим общественные отношения. Историк так описывает роль веча в главном княжестве того времени: «Несомненно, что в силу исключительных, тревожных условий, в каких находилась киевская земля, вечевая деятельность здесь отличалась и наибольшею энергиею». Однако, «и здесь вече не приобрело никаких определенных форм, ни постоянных и определенных функций, а осталось явлением экстраординарным. ...Не существовало ни определенных сроков, ни места собраний, ни определенной инициативы созвания веча, ни каких-либо форм представительства»[73]. Так и всегда бывает там, где при неразвитости общественных отношений еще не чувствуется потребность в определенной юридической норме. Богатые городские общины Западной Европы хорошо знали цену юридической нормы. Но там они
узнали ее в борьбе с феодалами, которой не вели города Киевской Руси[74]. Такой же неопределенностью отличались и отношения князя к своей дружине. «Боярский совет, как и вече, не выработал для себя ни определенных форм, ни специальной компетенции, – продолжает проф. Грушевский. – Князь советовался с теми боярами, которые были под рукою или которых он желал видеть на совещании; состав совета в виду этого мог быть более или менее многочисленным»[75]. Взаимные отношения между государем и его советниками становятся более определенными лишь тогда и лишь там, когда и где дружинник («антрустион») превращается в держателя земли. Стремление расширить свое право на землю, – главным образом, сделать его наследственным, – и побуждает держателя пред᾽являть государю известные требования, находящие свое выражение, в известных юридических нормах. Но процесс превращения дружинника в держателя земли совершается с большей или меньшей быстротой и приводит к тем или другим политическим результатам, смотря по тому, как подвигается вперед экономическое развитие данной страны. Он замедляется там, где замедляется это последнее. Так, напр., в Польше уже в XI в., после Болеслава Храброго (992–1025), дружина исчезла, уступив свое место «воям», – по-латыни «miles», – получившим от князя землю на условии службы, а также выполнения целого ряда повинностей (strуz᾽a, podwody, przesieka и т.д.). Эти «вои» постепенно делают свои земли наследственными и увеличивают свои права как относительно князя, так и относительно других слоев населения[76]. Но в Киевской Руси процесс превращения дружинника в «воя», который держал бы землю на известных условиях, замедлился вследствие значительно меньшей скорости экономического развития[77]. Дружина содержалась преимущественно на счет даней и прочих доходов князя. «Следов поместной практики – вознаграждения за службу землями – мы в эту эпоху еще не встречаем»[78]. Дружинники отнюдь не считают себя холопами князя. Они крепко держатся за свое право свободного перехода. Но переход недовольных дружинников от одного князя к другому служит лучшим доказательством того, что они еще не имели прочного положения в стране. Там, где у них было такое положение, они, в случае недовольства князем, не уходили от него, а вступали в борьбу с ним[79]. Так было, вероятно, в княжестве Волынском, где боярство
пользуется в XIII в. большим влиянием, и, наверно, в Галицкой земле. Но в Галицкой земле так было именно потому, что обстоятельства благоприятствовали ее экономическому развитию. «Внутренние войны были здесь почти неизвестны... Это дало возможность развиться экономическому благосостоянию земли и особенно повлияло на сформирование богатого, могущественного и тесно-сплоченного боярства. Во второй половине XII в. боярство чувствует себя настолько сильным, что откровенно стремится к тому, чтобы держать князя под своим влиянием, и не останавливается перед дворцовыми революциями и иными резкими действиями для достижения своих планов[80]. В начале XIII века борьба между галицкими боярами и князьями Игоревичами, которых призвали в Галицию те же бояре, до того обострилась, что князья составили против бояр настоящий заговор и перебили из них целых 500 человек, а бояре, в свою очередь, победив князей с помощью венгров, повесили Романа, Святослава и Ростислава «мьсти ради», – как говорит летописец[81]. Отсюда видно между прочим, что указание проф. М. Грушевского на отсутствие внутренних войн в Галицкой земле может быть принято лишь с известной оговоркой: внутренние войны были и там, как видим, хорошо известны. Но это не были войны, вызывавшиеся взаимным соперничеством князей из-за той или другой части территории, – хотя случались и такие: это были войны, порожденные взаимным столкновением различных политических сил, выросших на относительно благоприятной экономической почве. Между тем как войны первого рода ведут только к обеднению страны и даже к ее одичанию, вторые способствуют ее общественно-политическому развитию. Если в течение киевского периода своей истории Русь хотя и отставала от Западной Европы вследствие неблагоприятных географических условий своего развития, все-таки, –по складу своих внутренних отношений, – была гораздо ближе к ней. нежели в московскую эпоху, то Галицкая земля показала себя особенно доступной западному влиянию. В XIV в. галицкие князья употребляют печати западного образца, а их грамоты пишутся по-латыни[82]. Характерно, что, обращаясь к магистрам немецкого ордена, последний галицко-волынский
князь, Юрий, называет своих бояр любезными и верными баронами своими[83]. Сходство общественных отношений облегчало усвоение свойственных Западу политических представлений и выражений. Пример Галиции еще раз подтверждает ту, высказанную мною выше, мысль, что и независимо от завоевания внутренняя история данной страны может, при известных условиях, получить весьма «боевой, драматический характер».
Глава Х Соседство с кочевниками, как источник многих «европейских недочетов в русской исторической жизни». – Передвижение центра тяжести русской истории на северо-восток. – Социальная причина антагонизма между юго-западной и северо-восточной частями русской земли.
Мы видели, что многовековый натиск кочевников замедлял рост тех производительных сил, которыми располагало оседлое население Руси, и что замедление их роста, в свою очередь, задерживало процесс возникновения в ней влиятельного класса держателей земли и определенных норм политической жизни. Теперь следует прибавить, что тот же натиск, экономические последствия которого ослабляли силу боярства и тем способствовали относительному увеличению княжеской власти, должен был содействовать росту этой власти еще и с другой стороны. Энгельс как нельзя более справедливо заметил, что в основе политического господства всюду лежало отправление общественной службы и что политическое господство лишь в том случае сохранялось надолго, когда оно выполняло важную для общественной жизни функцию[84]. Какую же общественную функцию выполнял князь со своей дружиной? Функцию защиты княжества от неприятельских нападений. Князь был военным сторожем земли, по выражению проф. Ключевского. Это вовсе не значит, что он всегда заботливо и удачно выполнял эту свою функцию и что он не приносил интересов страны в жертву своим собственным интересам. Далеко не все князья обладали умом и энергией Владимира Мономаха, и к тому же все они руководствовались правилом: своя рубашка ближе к телу[85]. Но в глазах населения князь прежде всего был именно военным сторожем земли, и чем нужнее был такой сторож, тем больше увеличивалось его значение, тем больше росла его власть. Мы уже знаем как много сделали кочевники для того, чтобы русская земля почувствовала большую нужду в «военных сторожах». Повидимому, уже печенеги вынудили Русь защитить от них свою границу длинным рядом непрерывных укреплений[86]. Неудивительно поэтому, что, как отмечает проф. М. Грушевский, «княжеско-дружинный уклад в период своего развития вообще сильно придавил политическую, самоуправляющуюся силу земли, общины»[87]. Правда, в Новгороде, Пскове и отчасти Полоцке вече оттеснило князя на второй план; но главное течение русской политической жизни шло в прямо
противоположном направлении, и потому вольности более свободных городов пали современен под ударами княжеского деспотизма[88]. «Борьба со степным кочевником, половчином, злым татарином, длившаяся с VIII почти до конца XVII в., – говорит проф. Ключевский, – самое тяжелое историческое воспоминание русского народа, особенно глубоко врезавшееся в его памяти и наиболее ярко выразившееся в его былевой поэзии. Тысячелетнее и враждебное соседство с хищным степным азиатом – это такое обстоятельство, которое одно может покрыть не один европейский недочет в русской исторической жизни»[89]. Это справедливо, может быть, более, чем предполагал сам проф. Ключевский. Даже те «европейские недочеты», которые, на первый взгляд, не имеют прямого отношения к тысячелетнему соседству с кочевниками, при более внимательном рассмотрении оказываются следствиями замедленного борьбой с кочевниками экономического развития России. Это едва ли нуждается в новых доказательствах там, где речь идет о киевском историческом периоде. Посмотрим теперь, подтверждается ли это фактами, относящимися к позднейшему времени. Признаки падения киевской Руси сильно заметны уже во второй половине XII в. Татарское нашествие наносит ей тяжелый удар, от которого она долго не может оправиться. С этих пор центр тяжести русской жизни переносится на северо-восток, в бассейн Оки и верхней Волги. Правда, в течение некоторого времени рядом с этим центром существует другой. Галицкие князья именуют себя «самодержцами всея Руси» и пытаются взять в свои руки гегемонию, потерянную Киевом. Мы видели, что Галицкая земля более всех других русских земель подвергалась западному влиянию и что ее боярство сложилось в сильный и влиятельный класс. Если бы галицкие князья в самом деле стали «самодержцами всея Руси», т.-е. значительной части русских земель, то центр тяжести русской жизни остался бы на юго-западе и в течение следующего периода русской истории мы присутствовали бы при развитии государства, очень близкого по своему строю к соседним западным государствам, – напр., к Польше и Венгрии. Галицким «самодержцам всея Руси» пришлось бы уступать все более и более значительную часть своей власти галицкому боярству. Но обстоятельства сложились иначе. Галиция сама вошла в состав польского государства, и главный центр русской жизни перенесся на далекий северо-восток, где условия были очень неблагоприятны для упрочения и роста боярского влияния.
Уже в половине XII в. довольно сильно сказывается антагонизм между юго-западной Русью и Русью северо-восточной. Первое и, повидимому, самое естественное об᾽яснение этого антагонизма заключается в том, что юго-запада Русь была населена малороссами, а северо-восточная – великороссами. Но северо-восточная Русь населилась выходцами из юго-западной[90]. И если южно-руссы киевского периода были малороссами, то процесс возникновения великорусской ветви русского народа есть не более, как процесс изменения малорусских выходцев из южной Руси под влиянием новых условий жизни на северо-востоке великой Европейской равнины. Есть другое об᾽яснение антагонизма между двумя частями Руси – гораздо более глубокое. Его подсказывает нам профессор Ключевский: «Самая нелюбовь южан к северянам, так резко проявившаяся уже в XII в., первоначально имела, повидимому, не племенную или областную, а социальную основу: она развилась из досады южно-русских горожан и дружинников на смердов и холопов, вырывавшихся из рук и уходивших на север; те платили, разумеется, соответственными чувствами боярам в «лепшим» людям, как южным, так и своим залесским»[91]. Соображение это очень важно. Антагонизм между южной и северной Русью выразился также в антагонизме между Мстиславом Храбрым и Андреем Боголюбским. Известно, что в ответ на одно грозное требование Андрея Мстислав прогнал с бесчестием его посла, приказав остричь ему бороду и голову[92]. Но он поступил так не по племенной вражде, а по весьма определенной политической причине: «Мы до сих пор признавали тебя отцом своим по любви, – велел он передать Андрею, – но если ты посылаешь к нам с такими речами не как к князьям, а как к подручникам и простым людям, то делай, что задумал, а нас Бог рассудит». Андрей действительно вздумал третировать южных князей как своих подручников. Но он третировал так не одних южно-русских князей. Не лучше обращался он
в Ростовской земле со своими братьями и племянниками. Кроме того, что очень теснил «передних мужей» своего отца, т.-е. влиятельных бояр. Летописец находит у него намерение сделаться «самовластием» всей Суздальской земли. Это – опять политическое намерение. Поэтому не вполне точно выражается проф. Ключевский, говоря: «В лице князя Андрея великоросс впервые выступил на историческую сцену»[93]. Дело тут не в том, что Андрей был великороссом, а в том, что новые условия, в которые поставлена была княжеская власть на северо-востоке, дали ей возможность обнаружить некоторые свои стремления с такой силой, какой мы еще не видим у князей на юге. Мы уже знаем, что борьба с кочевниками, увеличивая власть князя как военного сторожа русской земли, вместе с тем замедляла экономическое развитие Руси, чем мешала возникновению в ней, – за исключением Волыни и Галиции, – влиятельного боярства, способного выставить определенные политические требования и, в случае надобности, поддержать их силой. Те условия, в которых очутилось русское население, перебравшееся с юго-запада на северо-восток, еще более усиливали эти «европейские недочеты в русской исторической жизни» и тем содействовали постепенному сближению русского общественного быта и строя с бытом и строем великих восточных деспотий.
Глава XI Хозяйственная деятельность Северо-восточной Руси.
Какие же это условия? Начнем с экономики северо-восточной Руси. По мнению проф. Ключевского, принятому значительным числом современных исследователей, внешняя торговля была главной пружиной народного хозяйства в Киевской Руси, между тем как северо-восточная Русь занялась преимущественно земледелием[94]. Но чем же торговала Киевская Русь? Она торговала сырьем. Как добывалось это сырье и какова была его природа? «Это была дань натурой, собранная князем и его дружиной во время зимнего об᾽езда, произведения лесных промыслов: меха, мед, воск. К этим товарам присоединялась челядь, добыча завоевательной дружины»[95]. Это достаточно характерно. Необходимость торговли определилась общественной функцией князя при данных экономических условиях: «зимою он правил, ходил по людям, побирался, а летом торговал тем, что собирал в продолжение зимы»[96]. Значит ли это, что торговля была главной причиной хозяйственной деятельности русского населения? Нет. Это значит лишь то, что торговля доставляла средства существования для князя и его дружины. Да и эти средства она доставляла путем обращения в товар продуктов лесных промыслов и охоты. Потому-то В.А.Келтуяла и называет русское государство того времени «охотничье-торговым». Но для того, чтобы мы имели право называть его так, нужно было бы, во-первых, чтобы охота и лесные
промыслы составляли преобладающую отрасль народного хозяйства; во-вторых, чтобы большая часть продуктов, доставляемых охотой и лесными промыслами, обращалась в товары. Но ни того, ни другого условия не было тогда на лицо. Что касается первого условия, то мы уже видели, как сильно ошибся В. А. Келтуяла, – вернее будет, пожалуй, сказать: как сильно ошиблись те авторы, взгляд которых, преувеличив его, усвоил он себе, – об᾽явив охоту главной отраслью народно-хозяйственной деятельности в Киевской Руси. А насчет второго условия заметим, что едва ли возможно такое общество, которое тратило бы большую часть ежегодного продукта своего труда на свое управление и самозащиту. Конечно, ходя «по людям», князья старались отобрать у них все, что только можно было отобрать. Церемонностью в этом отношении они не отличались, как показывает пример Игоря, которого древляне не без основания сравнивали с волком. Но как ни жадны были эти военные сторожа русской земли, на их долю шла только часть того ежегодного продукта, который народ создавал своим трудом. И, как сказано, не наибольшая часть. Это видно из того, что князьям доставались преимущественно продукты лесных промыслов и охоты, между тем как главным народным занятием было, – это доказано выше, – земледелие[97]. Вспомним еще раз ссору Ольги с древлянами. Убеждая жителей Коростеня покориться, она говорит им: «Вси ваши городи передашася мнƀ... и дƀлаютъ нива своя и землю свою». Она обращалась, как уже отмечено выше, к земледельцам. Но когда эти земледельцы решились покориться, они сказали ей: «Что хочеши у насъ? Ради даемъ и медомь и скорою»[98]. Это значит, что, занимаясь главным образом земледелием, русские племена того времени уплачивали дань продуктами своих подсобных промыслов. Вот эти-то продукты и вывозились князьями на продажу[99]. Их превращение в товары точно так же не делало торговли главной пружиной русского народного хозяйства, как затрат на их добывание известной части народного труда не делала охоты другой главной пружиной этого хозяйства. Можно спросить, разумеется: почему же князья брали дань «скорою», а не хлебом? Ответ заключается в том самом обстоятельстве, что князьям нужно было продавать собираемую ими дань или обменивать ее на другие товары. Продать можно было только то, что спрашивалось на рынке. В «Грƀкахъ» легко можно было продать меха и другие подобные продукты охоты и лесных промыслов, служившие предметами роскоши: но в привозном хлебе вряд ли нуждались «Грƀкы»: жители Балканского полуострова сами занимались тогда, как занимаются до сих пор, главным
образом земледелием[100]. Вообще наши исследователи как-будто забыли, что только капитализм сделал предметами всемирной торговли продукты, служащие для массового потребления, тогда как до него в торговле обращались преимущественно предметы роскоши[101]. И когда Ключевский говорит, что большинство наших древних крупных городов (Ладога, Новгород, Смоленск, Любеч, Киев) вытянулось цепью по линии, «образовавшей операционный базис русской промышленности»[102], – т.-е. по пути «Из варяг в Грƀкы», – то он смешивает понятие промышленности с понятием торговли, для чего вовсе нет, однако, достаточного основания. По указанной линии направлялись только предметы, которые были обращаемы в товары и на добывание которых затрачивалась совсем не большая, а лишь меньшая часть народного труда. Направлялось сырье, доставляемое охотой и лесными промыслами. И если мы сравним направлявшуюся по этой линии торговлю указанными предметами с тою торговлей, которую вели торговые города тогдашнего Запада, то немедленно и ясно увидим, в чем заключался «европейский недочет в русской исторической жизни»: «промышленность» крупных городов Западной Европы отнюдь не ограничивалась торговлей теми продуктами, которые доставлялись охотой и лесными промыслами; она была промышленностью в настоящем смысле этого слова, т.-е. ремесленной, а потом мануфактурной промышленностью. Наличность такой промышленности вводила новый и чрезвычайно важный элемент в общественную жизнь Запада[103]. Тут естественно возникает вопрос: каким же образом та, – сильно смахивающая на разбойничью, – торговля «скорою», которую вели наши князья и их «подвижные» дружинники, могла вызвать к жизни крупные городские центры? Этот вопрос навсегда остался бы неразрешимым, если бы в сочинениях наших историков не находилось данных, совершенно достаточных для его решения в смысле, прямо противоположном мнению тех же самых историков. Возьмем опять покойного Ключевского, как наиболее талантливого между ними. От него мы слышим, что рекою Волховом Новгород делился на две стороны: правая называлась Торговой, а левая – Софийской. Торговая сторона состояла из двух концов: Плоницкого и Славенского; Софийская – делилась на три конца: Hеревский,
Загородский и Гончарский. Это, конечно, не ново, но вот что важно. «Названия концов Гончарского и Плотницкого указывают, но мнению В.Ключевского, на ремесленный характер древних слобод, из которых образовались концы Новгорода. Недаром киевляне в XI в. бранили новгородцев презрительной кличкой плотников»[104]. Полезно прибавить, что Гончарский конец назывался также Людиным: это позволяет предположить, что названия других концов – «Неревский», «Славенский» и «Загородский» – отнюдь не исключали ремесленного характера их населения. Так, например, Славенский конец получил свое название от вошедшей в состав Новгорода древней слободы Славна. Возможно, что жители этой слободы тоже занимались тем или другим ремеслом, хотя, вероятно, и не в такой степени, как жители поселка Людина, который стали предпочтительно называть Гончарским концом, и того поселка, который стали предпочтительно называть Плотницким. Как бы там ни было, мы с удивлением видим, что в «охотничье-торговом» быту, сложившемся на восточно-европейской равнине в течение киевского периода, была более или менее распространена ремесленная деятельность. А раз там была распространена такая деятельность, то ясно, что и торговали там не только «медом и скорой», т.-е. не только продуктами охоты и лесных промыслов, а также продуктами ремесленного труда. Наличностью такого труда уже в значительной степени об᾽ясняется наличность крупных городских центров. Далее. Чем больше развивался такой труд, тем больше росла та общественная сила, которая могла ограничить власть князя. И мы, в самом деле, видим, что эта власть была слабее всего именно в «торговых» городах киевского периода. Наконец, если эти города торговали не только «медом и скорой»; если в них создавались продукты ремесленного труда, то, спрашивается, куда же сбывались? Если бы они вывозились за границу, в Византию или в западные страны, то это значило бы, что русские ремесленники опередили византийских и западно-европейских. Но в том-то и дело, что за границу вывозились «мед и скора», т.-е. уже знакомые нам продукты охоты и лесных промыслов, между тем как оттуда ввозились в русскую землю ремесленные и мануфактурные продукты[105]. А это значит, что русские ремесленники уступали заграничным. В этом заключался один из важнейших «европейских недочетов» тогдашней русской жизни. Но нас интересует здесь другой вопрос. Если изделия русских ремесленников не вывозились за границу, то ясно, что они сбывались на внутреннем рынке.
Господство натурального хозяйства не устраняло нужды русского земледельческoго населения в некоторых изделиях «ремесленных слобод». Таким образом открывался путь для развития на Руси среднего сословия. Впрочем я уже отметил выше то неблагоприятное для этого развития обстоятельство, что торгово-ремесленные элементы соединялись в крупные городские центры не в пределах тех русских земель, которым принадлежала гегемония в процессе русского политического развития, а за этими пределами. Благодаря этому, как ясно видел еще Пушкин, указанные торгово-ремесленные элементы не выступали на исторической арене в виде силы, которая непосредственно влияла бы на общественно-политический строй княжеств-гегемонов. Не играя роли во внутренней истории этих княжеств, они не ограничивали власти князя и его дружины. Напротив, они даже увеличивали ее, поскольку их борьба с княжествами-гегемонами увеличивала потребность этих последних в военной силе. Общественно-политический строй княжеств-гегемонов складывался, таким образом, под влияниями менее благоприятными, чем это было на Западе, для «третьего сословия». Усиление Москвы привело, наконец, к тому, что великие князья совершенно подчинили себе наши северо-западные торговые города и положили предел их торгово-промышленному развитию. Это не устранило, конечно, нужды земледельческого населения в некоторых произведениях ремесленного труда. Но, как увидим ниже, значительная часть производителей, удовлетворявших этой потребности, должна была жить и действовать в совершенно иной социально-политической обстановке.
Глава XII Общественные условия производства в этой части русской земли
А как складывалась эта новая обстановка? С ее экономической стороны наши исследователи чаще всего характеризуют ее упадком торговли, которая прежде составляла будто бы главную пружину русской хозяйственной жизни. «В верхне-волжской Руси, слишком удаленной от приморских рынков, внешняя торговля не могла стать главной движущей силой народного хозяйства, – говорит Ключевский. – Вот почему здесь видим в XV–XVI вв. сравнительно незначительное количество городов да и в тех значительная часть населения занималась хлебопашеством»[106]. Это утверждение талантливого историка опять требует критического анализа. В другом месте он так определяет разницу княжеского хозяйства в днепровской Руси, с одной стороны, и в верхне-волжской – с другой: «Там главными средствами княжеской казны были правительственные доходы князя, дани, судебные и другие пошлины. В летописях XII и XIII вв. находим указания на дворцовые княжеские земли... Но при тогдашней подвижности князей эти недвижимые дворцовые имущества не были значительны, не могли стать главным основанием княжеского хозяйства. Свой двор, свою дружину князь содержал преимущественно тем, что он получал как правитель и военный сторож земли, а не как личный собственник – хозяин. Дворец еще не был таким могущественным
центром управления, каким он стал потом в удельных княжествах на верхне-волжском севере, где дворцово-хозяйственная администрация слилась с центральным управлением, поглотила его»[107]. Тут заслуживает внимания следующее. Если свой двор, свою дружину князь содержал не доходами с недвижимых дворцовых имуществ, а тем, что получал, как правитель и военный сторож земли, и если, в качестве такого правителя, он брал у населения, как мы знаем, главным образом продукты охоты и лесных промыслов, то выходит, что этими продуктами и покрывались в своей главной части расходы, вызываемые такой важной общественно-политической функцией, как управление и защита страны от внешних нападений. С перенесением же центра тяжести русской политической жизни на верхнюю Волгу расходы по выполнению этой функции стали покрываться земледелием. Прогресс это или регресс? Вообще говоря, это – несомненнейший шаг вперед. Земледельческий труд много производительнее охотничьего. А чем производительнее та отрасль народного труда, продуктами которой покрывается общественная функция, тем, конечно, выгоднее это, при прочих равных условиях, для народа. Надо заметить однако, что при переселении на северо-восток далеко не все прочие условия остались равными. Начнем с почвы. На северо-востоке она была далеко не так плодородна, как на юго-западе. Проф. Ключевский очень хорошо говорит, что переселившиеся на северо-восток южноруссы в течение целых поколений должны были «подсекать и жечь лес, работать сохою и возить навоз, чтобы создать на верхне-волжском суглинке пригодную почву для прочного оседлого земледелия»[108]. Стало быть, новые географические условия сделали земледельческий труд, – ставший теперь главною основой княжеского хозяйства, – менее производительным, нежели он был прежде. А этот менее производительный земледельческий труд должен был покрывать между прочим и расходы по выполнению той общественной функцией, которая прежде покрывалась побочными, второстепенными отраслями народного труда. Другими словами: большая, чем прежде, часть прибавочного труда земледельца должна была отбираться от него для покрытия государственных расходов[109]. Или еще иначе: новые географические условия вынудили государство пред᾽являть земледельцу требования более тяжелые, нежели те, которые оно пред᾽являло ему в южной Руси. А чтобы обеспечить себе исполнение этих требований, ему нужно было увеличить размеры своей непосредственной власти над сельским населением. История этого населения в бассейне Волги есть процесс постепенного закрепощения его государством. Правда, процесс этот на первых порах почти не заметен[110]. В Суздальской
Руси первоначально положение крестьянина было, вообще говоря, лучше, нежели в киевской. «По актам XV века, – говорит проф. Ключевский, – видно, что здесь крестьянин-должник не только не превращался в холопа за уход с земли частного владельца без расплаты, но и после ухода уплачивал свой долг с рассрочкой и без процентов. Нужда в рабочих руках, вместе с невозможностью удержать их насильственными средствами при общем брожении, несомненно, всего более содействовала такой льготной перемене в юридическом положении крестьян[111]. Оно и неудивительно. Мы уже видели, что антагонизм между северо-восточною и юго-западною Русью, обнаружившийся еще задолго до татарского нашествия, вызывался преимущественно экономической причиной: южно-русские бояре и все общественные слои, находившиеся под их влиянием, недоброжелательно смотрели на представителей тех местностей, в которые уходили от них рабочие силы, между тем как эти последние уносили с собою не весьма отрадные воспоминания о своем старом местожительстве. Почему же уходили они на северо-восток? Потому что смерды искали безопасности «от поганых». Но также, а, может быть, и главным образом еще и по другой причине. Смерды искали «на новых местах» избавления от той кабальной зависимости по отношению к верхнему классу, в которую они все более и более попадали у себя на родине. На первых порах они, как сказано, действительно, нашли такую независимость. Прибавлю мимоходом, что первым политическим следствием экономического положения, созданного на северо-востоке тем классовым антагонизмом, который первоначально возник на плодородной почве Юго-западной Руси, должно было явиться усиление княжеской власти. Смерды, бежавшие на верхнюю Волгу от боярской эксплуатации, конечно, не были расположены становиться на сторону суздальских, владимирских и московских бояр в их столкновениях с северо-восточными «самовластцами». Напротив, они должны были поддерживать самовластцев, надеясь найти у них помощь в своей собственной борьбе с крупными землевладельцами. И самовластцы очень хорошо умели использовать эту надежду, всегда оставаясь готовыми бесстыдно обмануть ее при первой практической надобности. А практическая надобность представилась очень скоро. Земледельческий труд сделался теперь главной основой «княжеского хозяйства». Однако, это хозяйство, как и все хозяйство тогдашней Руси, было натуральным. Князья частью сами хозяйничали на своих землях, а частью раздавали их своим служилым людям. Но дать землю служилому человеку чаще всего значило дать ему известное, более или менее широкое, право распоряжаться трудом сидевших на ней земледельцев: ведь служилый человек не сам обрабатывал те земельные участки, доходы с которых, обеспечивая его существование, давали ему возможность служить своему
«государю»[112]. Определение размеров этого права на труд земледельца, сидевшего на земле, пожалованной служилому человеку, имело огромное практическое значение для обоих заинтересованных сторон. Служилый человек стремился раздвинуть эти пределы как можно шире, а земледелец, наоборот, пытался сузить их до последней степени возможности. Каждая сторона апеллировала к князю. А для князя выгоднее всего было решить спорный вопрос так, чтобы, обеспечив себе всю полноту политической власти над служилым человеком, предоставить этому последнему всю широту возможной экономической эксплуатации земледельца. В этом смысле вопрос мало-по-малу и был решен внутренней историей северо-восточной Руси. Крепостная зависимость крестьян от помещиков явилась между прочим юридическим выражением этого, найденного историей, решения. Однако, не будем забегать вперед. На первых порах до крепостной зависимости было еще далеко. На первых порах землевладельцам и служилым людям Суздальской Pyси можно было только мечтать, – если хватало дальновидности, – о том счастливом времени, когда крестьянину так же будет некуда податься на верхней Волге, как некуда было податься на Днепре. Это счастливое время не так уже долго заставило себя ждать. В междуречье Оки и Волги, куда прежде всего направились выходцы из юго-западной Руси, население все более и более сгущалось, так как ему было крайне затруднительно передвигаться дальше на восток и на север. Это явление, сильно способствовавшее экономическому прогрессу местности, не менее сильно упрочивало позицию землевладельцев и правительства по отношению к земледельцам. «Пока продолжалось насильственное скучение населения в этом краю, тяглый люд поневоле делался более усидчивым, облегчая устроительную работу местных правительств и землевладельцев»[113]. Но уже с половины XV века землевладельцы стараются добиться законодательного регулирования крестьянских переходов. Ответом на их домогательства явился знаменитый, вошедший даже в пословицу, Юрьев день. Проф. Ключевский замечает, что известие Герберштейна о шестидневной крестьянской барщине преувеличено, «но самим преувеличением тягости их положения оно свидетельствует, какую самоуверенность приобрел северно-русский землевладелец и до каких значительных размеров достигла к началу XVI века его вотчинная власть над крестьянами, благодаря привилегии. Это подтверждается и русскими свидетельствами того же времени»[114]. При всем том Юрьев день только ограничил право крестьянского перехода, а не упразднил его. Да в его упразднении и не было крайней надобности до тех нор, пока продолжали существовать условия, препятствовавшие крестьянам покидать междуречье Оки и верхней Волги. Эти препятствия окончательно исчезли
в половине ХVI в. И тогда население широким потоком хлынуло из центрального междуречья на юго-восток, по Волге, и на юг, по Дону. Пустели не только деревни, но целые города. По сильному выражению проф. Ключевского, ход сельского хозяйства в Московской Руси «представлял, можно сказать, геометрическую прогрессию запустения». Необходимо было остановить запустение. И вот уже в середине XVI века мы встречаем грамоты, которые представляют посадским волостным людям «на пустыя места дворовыя, на посадƀ и въ станƀхъ, и в волостƀхъ, в пустыя деревни и на пустоши, и на старыя селища хрестьянъ изъ-за монастырей выводить назадъ безсрочно и безпошлинно, и сажать ихъ по старымъ деревнямъ, гдƀ кто въ которой деревни жилъ прежде того». Так предписывала поступать уставная Важская грамота в 1552 году, т.-е. за 40 лет до того пока еще не найденного указа, который, по известному предположению, уничтожил свободу крестьянского перехода. В жалованных грамотах Строганова, 1564–68 гг., запрещается принимать к себе «тяглых людей письменных» и предписывается отсылать таких людей на прежнее местожительство но требованию местных властей[115]. Приказывая возвращать «крестьянъ изъ-за монастырей на старыя мƀста в посадƀхъ и в станƀхъ», государство охраняло свой собственный интерес, но не следует думать, что оно забывало интерес землевладельцев. Мы узнаем от И.Энгельманна, что «еще за 150 лет до общего запрещения крестьянских переходов знаменитый Троицко-Сергиев монастырь получил привилегию не отпускать своих крестьян»[116]. Бесполезно рассказывать дальше историю крестьянского закрепощения. Достаточно повторить, во избежание недоразумений, что она была очень продолжительна: ее окончание относится к петербургскому периоду. Екатерина Вторая распространила крепостное право на Малороссию, а Павел Первый на Новую Россию, «дабы единожды навсегда водворить в помянутых местах по сей части порядок и утвердить в вечность собственность каждого владельца»[117].
Глава XIII Чью землю oбрабатывали там земледельцы?
Перейдем к рассмотрению другой стороны того же процесса. Кому принадлежала та земля, к которой прикрепляли крестьян? Проф. Ключевский утверждает, что крестьяне XVI века «по отношению к своим землевладельцам были вольными и перехожими арендаторами чужой земли – государевой, церковной или служилой»[118]. Так как никто не арендует своей собственной земли, то арендовать вообще можно только чужую землю. Но не в том дело. Всегда ли крестьяне были арендаторами? Другой исследователь, проф. Любавский, полагает, что «в центральном Ростовско-Суздальском районе
Северо-Восточной Руси» они являются в качестве арендаторов уже в XIV веке[119]. Но и это еще не решает вопроса. Вряд ли можно предположить, что уже с самого появления своего в этой местности они обрабатывали чужую землю. Мы видели, что они переселялись сюда из юго-западной Руси, спасаясь от кабалы, в которую загоняли их там неблагоприятные условия жизни. Появление «смердов» предшествовало на северо-востоке появлению там более или менее крупных землевладельцев. А если это так, то мы можем сказать, что земля, на которую они здесь садились, была «чужою» разве только в том смысле, что они, может быть, и тогда уже называли ее «божьей». Но «божью» землю никто и никогда не стеснялся присваивать себе, когда это было нужно и возможно. Значит, северо-восточные крестьяне обрабатывали свою собственную «божью» землю прежде, чем увидели себя вынужденными взяться за обработку чужой земли. А отсюда следует, что со временем у них было отнято право собственности на их земли. Как произошла эта экспроприация земледельцев? Двумя путями: во-первых, «смерд» в Суздальской Руси нередко, хотя на первых порах и много реже, чем в Киевской, попадал в такие неблагоприятные условия, которые лишали его возможности вести самостоятельное хозяйство. Тогда он должен был искать помощи на стороне. И если он находил ее у более или менее крупного землевладельца, он становился «арендатором чужой земли». Во-вторых, удельные князья северо-восточной Руси уже рано стали рассматривать земли, занятые «смердами», как свою собственность. Пока в их княжествах оставалось много пустых, никем незанятых земель, этот взгляд на крестьянскую землю как на княжескую собственность не имел тяжелых для крестьян практических последствий. Но рост народонаселения и захват земель служилыми людьми и духовенством привели к тому, что князья стали на деле обращаться с крестьянами, сидевшими на своей земле, как с «арендаторами» земли государственной. Об᾽единившая северо-восточную Русь Москва действовала в том же самом направлении, со все более возраставшей последовательностью и со все более входившею в административные нравы жестокостью. Уложение царя Алексея Михайловича выразило в виде весьма определенной юридической нормы то, что давно уже упрочилось практикой московского государства. Оно запретило тяглым людям в черных сотнях и слободах продавать и закладывать свою землю: «А кто черныя люди тƀ свои дворы продадутъ или заложатъ, и тƀхъ черныхъ людей за воровство бити кнутомъ». Проф. Ключевский говорит: «Даже сидя на черных землях, но составлявших ничьей собственности, крестьяне не считали этих земель своими. Про такие земли крестьянин XVI века говорил: «Та земля великого князя, а моего владения»: «та земля Божья да государева, распаши и ржи наши». Итак, черные крестьяне очень ясно отличали право собственности на землю от права пользования ею[120]. Это логичный вывод. Остается неисследованным лишь вопрос о том, сколько батогов поломали на спине крестьянина великокняжеские слуги для того, чтобы поднять его на высоту такого «ясного» отличения.
Петербург не только не отказался от этой политики Москвы, но довел ее до самых крайних ее последствий. Москва стремилась к тому, чтобы земля не выходила из «тягла». Этого ей удалось достигнуть. Но это не помешало существованию в Московской Руси довольно значительного числа «гулящих людей», ухитрившихся избегать весьма и весьма сомнительного удовольствия числиться в списках «тяглецов», на которых лежало все бремя государственных повинностей и платежей. Петр I поставил себе целью добиться, того, «чтобы никто не былъ в избылыхъ». Эта цель была достигнута указом 1722 г. о введении подушной подати. «Если, как справедливо и давно уже заметила г-жа Ефименко, государство есть настоящий собственник тяглой земли, а не крестьянство, – естественный вывод, что государство обязано обеспечить за каждой душой возможность платить путем наделения ее землей»[121]. В течение всего XVIII века петербургское правительство и стремилось обеспечить такую возможность за каждой душой. Знаменитые межевые инструкции 1754 и 1766 гг. произвели, можно сказать, целую революцию в землевладении крестьян и однодворцев, т.-е. низшего разряда служилых людей, охранявших некогда московские «украйны», но постепенно слившихся с крестьянами. Местами крестьяне ходатайствовали о «неотъемƀ отъ нихъ старинной ихъ владƀемой земли»; их просьбы были оставляемы без последствий. Местами они, не ограничиваясь просьбами, сопротивлялись «отъему» у них земли «многолюдственно, съ дубьемъ и дрекольемъ»; но их сопротивление побеждалось вооруженной силой солдат; бунтовщикам «чинилось нещадное батожьем наказание», и в конце-концов земля все-таки переделялась согласно видам петербургского правительства[122]. Так сложились мало-по-малу путем медленного процесса обезземеления крестьянина и длинного ряда жестоких нарушений его прав знаменитые в истории нашей общественной мысли аграрные «устои» русской народной жизни. Представление о них связывается обыкновенно с представлением о нашей сельской общине. Но переделы земли между государственными крестьянами выходили далеко за границы отдельных общин и, по крайней мере в принципе, распространялись на все государство. «Постановка вопроса о поземельном наделе крестьян на широкой государственной основе, – говорит В.И.Якушкин, –
приводила к тому, что за всяким крестьянином, всяким лицом, состоящим в крестьянстве, признавалось неот᾽емлемое право на поземельный надел: если выдывался случай, что кто-либо, состоя в крестьянском звании, не имел «отведенных им земель», то по этому поводу возбуждалось дело, наводились справки, делались запросы. – Поземельный надел стал таким неот᾽емлемым правом казенного крестьянина, что в одном именном указе прямо высказано: «каждому поселянину на каждую душу надлежащее число десятин годной пашенной земли, лугов, лесов – полагается по государственным учреждениям»[123]. Закрепощение крестьян государством было дополнено системой земельных переделов, а система земельных переделов, в свою очередь, завершила собою закрепощение крестьян государством. «Смерд», бежавший с юго-запада на северо-восток и первоначально нашедший там, как мы видели, некоторое улучшение своей участи, мало-по-малу окончательно утратил там и свою собственность на землю, и свою свободу. Наша пресловутая сельская община с переделами означала не то, что земля принадлежала обществу крестьян, а то, что и земля, и крестьяне составляли собственность государства или помещика. Земельные переделы дополнялись круговой порукой и паспортной системой. По указу 19 мая 1769 г. старост и выборных забирали, в случае неуплаты крестьянами подушной недоимки, под караул и употребляли в тяжелые работы «без платежа заработных денег» вплоть до полной уплаты подати. А.П.Заблоцкий-Десятовский справедливо назвал этот указ жестоким и не менее справедливо определил его бытовое значение: «он уничтожил личную ответственность плательщика за подать, ввел круговую поруку, обратил сельские свободные общины в податные единицы, а податной системе придавал значение постоянной контрибуции»[124]. Словом, это было полное торжество крепостничества в отношениях между государством и его главной рабочей силой – крестьянином. Но и на этом дело не остановилось. Система шла дальше, стремясь к своему логическому концу. Наибольшей степени развития достигла она благодаря административному усердию и, если хотите, организаторскому таланту пресловутого министра государственных имуществ гр. П.Д.Киселева. «Вообразите крупнейшего в мире помещика-рабовладельца. Этот рабовладелец не кто иной, как само государство; граф Киселев – это главный управляющий, министерство государственных имуществ – его вотчинная контора, окружные начальники – бурмистры, действующие на местах. Их действия подкреплялись зуботычинами, засадкой в холодную, драньем и, сверх того, взиманием «денежной молитвы»[125].
Глава XIV Крестьянин Северо-восточной Руси в cвоем отношении к государству. – Параллель с деспотиями Востока
Подневольный быт русского крестьянина стал как две капли воды похож на быт земледельца великих восточных деспотий. Напрасно думал Н.А.Благовещенский, что «ничего подобного никогда и нигде не было и не могло быть, кроме России». Нечто совершенно подобное существовало везде, где крестьянин был закрепощен государством: в древнем Египте, в Халдее, в Китае, в Персии, в Индии. Конечно, не везде эти отношения достигали одинаковой степени развития. Больше всего они были, повидимому, развиты в Китае и в Египте. «В принципе весь Египет составлял, – говорит А.Бушэ-Леклерк, – одно государево имение, населенное крепостными, работавшими на государя и поддерживавшими свое существование тою частью его доходов, которую он представлял в их распоряжение»[126]. Мы сейчас увидим, в каком смысле это положение представляется Бушэ-Леклерку только принципиальным. Но и теперь уже уместно будет заметить, что в Египте отнятие у земледельцев права собственности на землю подвинулось вперед значительно дальше, нежели, например, в Халдее. В этой последней земля в значительной степени продолжала оставаться собственностью кровных союзов, и нередко случалось, что когда государь хотел по-своему распоряжаться частью земли, принадлежавшей тому или другому из этих союзов, то он покупал ее у них[127]. В древнем Египте и в Московской Руси государь совсем не считал себя обязанным вознаграждать экспроприируемых[128]. В Московском государстве так было по крайней мере со времен Грозного. Что касается Китая, то там, как это показывает исследование Захарова, установилась приблизительно за тысячу лет до Рождества Христова такая система: тяглый крестьянин сидел на земле, которая принадлежала государству и отчасти непосредственно возделывалась им для того же государства, а все служилые люди получали вознаграждение землею. В продолжение более чем тысяча лет вся внутренняя история Китая совпадала, по выражению Элизэ Реклю, с историей землевладения, а эта последняя, в свою очередь, сводилась к борьбе за землю между различными классами китайского общества. Служилые люди стремились обратить в наследственную собственность те участки, которые отводились в их пользование, государство же, опираясь на
нуждавшуюся в земле и жадно стремившуюся к ней крестьянскую массу, противодействовало этому стремлению с большим или меньшим успехом. Когда китайское правительство вновь получало практическую возможность распоряжаться в интересах государства теми землями, которые были на более или менее продолжительное время присвоены себе служилыми людьми, совершался настоящий «черный передел», могущий, при недостаточной осведомленности, представиться чем-то похожим на социалистическую революцию. Но на самом деле такие перевороты прямо противоположны социализму по своей природе: социализм означает господство производителя над средствами производства. А здесь сам производитель представляет собою собственность государства, его говорящее орудие производства (instrumentum vocale). Ниже мы подробно рассмотрим, какую вредную роль сыграло в истории русской общественной мысли неправильное представление о родстве аграрной политики восточных деспотий с социализмом Западной Европы.
Глава XV Усиление центральной власти под влиянем условий сельскохозяйственной деятельности в Северо-восточной Руси
Когда сам крестьянин является принадлежащим государству средством производства, тогда его нельзя наказать, лишив его части имущества или свободы: у него нет ни того, ни другой. Поэтому за свои проступки он расплачивается своею спиною. Если, как мы видели выше, система земельных переделов дополнялась у нас паспортной системой и круговой порукой, то круговая порука, уничтожившая личную ответственность плательщика перед государством, имела своим естественным дополнением «выколачивание податей». Государство выколачивало их из общины в лице ее ответственных перед ним представителей, а община – из своих плательщиков. Основание этому было положено еще в московский период. «Взимание недоимок большею частью не ограничивалось одним сбором, а сопровождалось правежом, – говорит г. А.Лаппо-Данилевский. – Правеж производился двумя способами: или воевода посылал в уезд своих подчиненных и поручал им доправить недоимки и взыскать с плательщиков прогоны (иногда в двойном количестве), «ƀздъ и кормъ», или крестьяне высылались для правежа в город к воеводе, который допрашивал с них прогоны вдвое, иногда конфисковал их «животы», лавки, заводы и промыслы, а их владельцев бил батогами нещадно, чтобы «инымъ сошнымъ людямъ впредь воровать было неповадно», правил с них подати весь день до вечера, а на ночь «металъ» их в тюрьму»[129]. На почве таких отношений возникали своеобразные нравы, главная отличительная черта которых заключалось в том, что порабощенный государством крестьянин иногда избегал платить подати даже и в том случае, если не вполне был лишен материальной возможности сделать это, предпочитая расплату спиною расплате трудом, продуктами или деньгами. Некрасовский «свято-русский богатырь»
Савелий (»Кому на Руси жить хорошо») – типичный представитель таких нравов. Читателю, который захотел бы лишний раз убедиться в том, что одинаковые причины порождают одинаковые следствия, можно указать для сравнения на исследование Уилькинсона «Manners and Gustoms of ancient Egyptians», во втором томе которого есть поучительная глава: «The bastinado», т.-е. наказание палками, «батожьем». Вся разница тут лишь в том, что у древних египтян на батоги употреблялось дерево другой породы, преимущественно – пальма[130]. Соловьев был совершенно прав, говоря, что история России есть история колонизующейся страны. Но дело не только в том, что Россия была колонизующейся страной. Дело еще, во-первых, в том, что колонизация совершалась, – как на это указал, впрочем, и Соловьев, – при постоянном и сильном натиске со стороны кочевников, а во-вторых, в том, что хозяйство русского племени, колонизовавшего восточную равнину Европы, было натуральным хозяйством. История Северо-Американских Соединенных Штатов тоже была историей колонизующейся страны. Но там колонизация совершалась при совсем других экономических условиях и при совсем других международных отношениях. Поэтому там она дала совершенно другие социально-политические результаты. Я уже предупреждал читателя на счет того, что не следует преувеличивать роль торговли в экономической жизни киевского периода. В товары и тогда обращалась лишь небольшая часть ежегодного продукта народного труда, причем часть эта доставлялась не столько земледелием, сколько второстепенными, подсобными промыслами. Но с перенесением центра тяжести исторической жизни в междуречье Оки и Волги торговля, – по крайней мере внешняя, – стала играть еще меньшую роль. Тогда расходы, вызываемые управлением страны и ее защитой, стали покрываться, как мы уже знаем, преимущественно земледельческим, а не охотничьим трудом населения. Причина этого коренится в новых географических условиях. Посылка продуктов охоты и лесных промыслов из Суздальской Руси «в Грƀкы» и на европейский Запад была очень затруднительна. Сбывать же «скору и воск» инородцам, между которыми водворялись на новых местах переселенцы из Юго-западной Руси, было совершенно невозможно уже по одному тому, что у них и скоры, и воску, и меду было во всяком случае не меньше, чем у самих переселенцев. Но если расходы по управлению страною и по ее самообороне больше не могли покрываться продажей продуктов охоты и лесных промыслов; если эти важные функции общественной жизни должны были почти исключительно опереться на земледелие; если, стремясь обеспечить их исполнение, государство, как мы видели, вынуждено было постепенно ограничивать свободу земледельца, а в конце-концов и совершенно закрепостить его, и если этот постепенный процесс утраты крестьянином своей свободы открывал все больше и больше простора для эксплуатации и угнетения его служилыми людьми, то, с другой стороны, те же географические условия, при которых совершалась колонизация
северо-восточной Руси, были неблагоприятны для роста силы его сопротивления угнетателям и эксплуататорам. «На севере поселенец посреди лесов и болот с трудом отыскивает сухое место, на котором можно было бы с некоторою безопасностью и удобством поставить ногу, выстроить избу. Такие сухие места, открытые пригорки, являлись редкими островками среди моря лесов и болот. На таком островке можно было поставить один, два, много три крестьянских двора. Вот почему деревня в один или два крестьянских двора является господствующей формой расселения в северной России чуть не до конца XVII в.»[131]. Вполне понятно, что сила сопротивления подобной деревни очень невелика. Чтобы обезопасить себя от внешних нападений, – например, от набегов тех же кочевников, которые и на северо-востоке не оставляли в покое русского земледельца, – обитатели подобной деревни будут расположены поддерживать всеми зависящими от них средствами усиление центральной власти, сосредоточивающей в своих руках оборону страны, и расширение подчиненной ей территории: чем больше такая территория, тем больше людей может быть привлечено к делу ее обороны. И мы в самом деле видим, что северо-восточные русские крестьяне охотно способствуют увеличению княжеской власти и расширению государственной территории. Знаменитое «собирание Руси» великими московскими князьями могло итти так успешно только потому, что «собирательная» политика пользовалась горячим сочувствием со стороны народа. Но в то же самое время северо-восточные русские земледельцы, рассеянные в лесной глуши и разбитые на крошечные поселки, были бессильны против притязаний и злоупотреблений этой, их же нуждами и их же сочувствием укреплявшейся, центральной власти: крошечная деревенька в два–три двора могла оказывать только пассивное сопротивление московским посягательствам на ее свободу, а все остальные деревеньки были слишком разобщены с нею, чтобы поддержать ее в роковую для нее минуту, напротив, они же и дали бы Москве средства для борьбы с «воровством» непокорных поселков. Если, по замечанию Энгельса, деревенские общины всюду, от Индии до России, служили экономической основой деспотизма, то одна из самых главных причин этого явления лежит в условиях натурального хозяйства, исключающих экономическое разделение труда и разбивающих все земледельческое население обширного государства на небольшие группы, не нуждающиеся одна в другой, а потому и равнодушные друг к другу именно в силу полного тождества их экономического и общественного положения[132]. Конечно, в каждой из восточных деспотий были свои особые условия, ослаблявшие или усиливавшие действие указанной причины. К числу причин, чрезвычайно усиливавших ее действие в восточных деспотиях, надо отнести необходимость орошения. Каждая из многочисленных восточных деспотий знала очень хорошо, что она
прежде всего является представительницей народа в деле орошения речных долин, без чего там было немыслимо и самое земледелие»[133]. Однако, не будем удаляться от России.
Глава XVI Служилое сословие, духовенство и центральная власть в Северо-восточной Руси
Мы знаем: положение русского крестьянина мало-по-малу сделалось очень похожим на положение крестьянина любой из великих восточных деспотий. С этой стороны Россия в течение целых столетий все более и более удалялась от европейского Запада и сближалась в Востоком. Но так как все общественно-политическое здание держалось в земледельческой России на широкой спине крестьянства, то и положение служилого класса не могло не приобрести в ней очень заметного восточного оттенка. Выше было указано, что отношения между главою государства и служилым классом становятся более определенными лишь тогда и лишь там, когда и где дружинники превращаются в держателей земли. Процесс этого превращения сопровождается борьбою держателей земли с государем. Держатели стремятся сделать свои земли наследственными; государь противится атому стремлению. Там, где более сильными оказываются держатели, они обеспечивают себе наследственность ленов, и на этой социальной основе расцветают политические «учреждения независимости». Так было, например, во Франции[134], так было и в Польше, на которую я уже ссылался, говоря о Киевской Руси. Польское служилое сословие быстро превращается в привилегированное, заботливо ограждающее свою независимость от короля уже в 1373 г. Кошицкая привилегия сделала наследственными все имения «милитов», гарантируя князю только два гроша с лана в год, в виде подати с таких имений, и военную службу, сообразно с количеством находившейся в них земли. Червиньская привилегия 1422 г. установила, что король не имеет права без суда конфисковать имущество шляхты, а привилегии 1425, 1430 и 1433 гг. определили те шесть случаев, за исключением которых шляхтич без суда не может быть лишен свободы. Нешавские статуты 1454 г. освободили шляхту от суда королевских чиновников
и открыли ей доступ к законодательной власти; в силу этих статутов всякая мера, налагающая какое-нибудь обязательство на шляхту, должна была подлежать ее предварительному обсуждению. Наконец, конституция, известная под именем конституции «Nihil novi», провозгласила, что без согласия сейма король не может ограничить личные права шляхтичей. С этих пор вся внутренняя история Польши была историей страны, в которой безраздельно господствовало привилегированное сословие земледельцев, оставившее королю одну только тень политической власти. Не то мы видим в северо-восточной Руси. Здешние «милиты» выступают сначала как «вольные слуги» удельных князей, а кончают тем, что становятся «холопями» московских великих князей и подобно крестьянам утрачивают право свободного перехода. Уже в половине XVI столетия служилое сословие оказывается совершенно закрепощенным государству, и это его закрепощение, – может быть, еще больше, нежели закрепощение крестьянства, – уподобляет общественно-политический строй Московской Руси строю великих восточных деспотий. Герберштейн, посетивший Россию в 1517 г., т.-е. при Василии Ивановиче, был поражен беспредельностью княжеской власти. «Он имеет власть как над светскими, так и над духовными особами и свободно, по своему произволу, распоряжается жизнью и имуществом всех. Между советниками, которых он имеет, никто не пользуется таким значением, чтобы осмелиться в чем-нибудь противоречить ему или быть другого мнения. Они открыто признают, что воля князя есть воля бога и что князь делает, то делает по воле божией; потому они даже называют его божьим ключником и постельником и, наконец, верят, что он есть исполнитель воли божией. Оттого сам князь, когда его умоляют о каком-нибудь заключенном или в другом важном деле, обыкновенно отвечает: будет освобожден, когда бог велит. Подобно тому, если кто-нибудь спрашивает о каком-нибудь неизвестном и сомнительном деле, – обыкновенно отвечают: знает бог и великий государь. Неизвестно, такая ли загрубелость народа требует тирана-государя, или от тирании князя этот народ сделался таким грубым и, жестоким»[135]. Надо думать, что если бы ожила мумия какого-нибудь «холопа» или дьяка, – scribe, как выражаются французские египтологи, – одного из египетских фараонов, скажем, XII династии, и совершила путешествие в Московию, то, в противоположность западному барону Герберштейну, она не нашла бы очень много удивительного для себя в общественно-политическом быту этой страны. Она решила бы, что отношения москвитян к верховной власти весьма близкие к тому, что
существовало на ее далекой родине, именно, таковы какими они должны быть в благоустроенной стране. Местности, в которых сложились великие восточные деспотии, тоже прошли через фазу феодализма. Но в них держателям земли, несмотря на их усилия, не удалось обратить лены в свою наследственную собственность. Государи не только в принципе сохранили верховное право на землю, но и на практике постоянно пользовались им. Так, в Халдее, согласно своду законов, известному под именем кодекса Гаммураби, служилый человек получал от казны дом с садом, участок пахотной земли и быков для его обработки. Это имущество составляло нечто в роде его поместья, остававшегося за ним лишь до тех пор, пока он исполнял свою службу. Статья 3-я названного Свода говорит, что держатель лишается земли, если не исполняет службы в течение трех лет; статьи 35-я и 36-я об᾽являют эту землю неотчуждаемой; наконец, статьи 32-я и 38-я предупреждают, что никаких исключений тут не допускается[136]. Перед нами тут поместное землевладение, в роде московского, вполне сложившееся за 2.000 лет до начала нашей эры. В Персии земля до недавнего времени составляла собственность шаха. «Феодальным сеньорам, частным лицам, даже религиозным корпорациям доступно, – говорит Э.Лорини, – только пользование, физическое распоряжение; но их право владения всегда зависит от произвола монарха, который может упразднить его когда бы то ни было»[137].Точно так же в Московской Руси имение служилого человека всегда могло быть «отписано на государя». Вообще вотчинное землевладение все больше и больше отступало там перед поместным. И чем больше оно отступало перед ним, тем больше возрастала зависимость служилого сословия от князя, тем более прежние вольные люди превращались в «холопей». Теперь уже хорошо известно, какими мерами боролся Грозный со своими «изменниками» из боярской среды. Его опричнина служила ему не только для того, чтобы казнить «изменников»; она нанесла страшный удар боярскому землевладению. «Ликвидируя в опричнине старые поземельные отношения, завещанные удельным временем, правительство Грозного взамен их везде водворило однообразные порядки, крепко связывавшие право землевладения с обязательною службою»[138]. Чем крепче связывалось землевладение с обязательной службой, тем больше крепла зависимость служилого человека от верховной власти и тем полнее становилась сама эта власть. Но не Грозный выдумал поместную систему. Она возникла и окрепла задолго до него. Уже eгo дед, Иван III, как нельзя лучше понимал великое значение поместной системы в государственном хозяйстве Москвы. В декабре 1477 г. его бояре говорили новгородским послам: «великий князь велел вам сказать, что Великий Новгород должен отписать на нас волости и села, ибо нам, великим князьям, государство свое на своей отчине в Новгороде без того нельзя держать».
А 4-го января следующего года Иван пред᾽явил новгородцам точно определенные требования отписать на его имя «половину волостей владычных и монастырских и половину волостей Новоторжских, чьи бы ни были»[139]. Таким образом, уже в конце XV века земли, подлежавшие раздаче в поместья, сделались в руках московского правительства главным средством выполнения важнейших государственных функций: управления и обороны страны. Иван III так дорожил своим поместным фондом и так заботился об его увеличении, что не прочь был наложить руку и на земли, принадлежавшие церкви. Его терпимое и даже как бы сочувственное отношение к ереси «жидовствующих» об᾽ясняется тем, что «жидовствующие» были противниками монашества. Экспроприация монастырей передала бы в руки московского правительства их огромные недвижимые имущества. Соблазн был так велик, что за «жидовствующих» стояла очень сильная партия при дворе Ивана, Секуляризация церковных имений была в интересах всего служилого класса. Но церковь сумела отклонить грозившую ей опасность. Она не без основания указала на то, что «мнози и отъ невƀрныхъ и нечестивыхъ царей въ своихъ царствахъ отъ святыхъ церквей и отъ священныхъ мƀстъ ничтоже имаху, и недвижныхъ вещей не смƀли двигнути, и судити или поколебати... и зƀло по святыхъ церквахъ побераху, не токмо въ своихъ странахъ, но и в Руссійскомъ вашем царствіи, и ярлыки давали». Упоминание об ярлыках показывает, что красноречивые защитники неприкосновенности церковных имуществ под «невƀрными и нечестивыми царями» понимали собственно татарских ханов. Русская православная церковь, в самом деле, жила некогда в трогательном согласии с «невƀрными и нечестивыми» татарскими ханами. Митрополит Кирилл, – первый русский митрополит, поставленный после разорения Киева, – учредил православную епископию в ханской столице и получил от Менгу-Темира жалованную грамоту, ограждавшую на вечные времена права духовенства. Оно освобождалось от всяких даней и повинностей. Его земли и люди были об᾽явлены неприкосновенными. Хула против православной веры и, – что было еще важнее, – всякое нарушение предоставленных духовенству привилегий наказывалось смертной казнью. Таким образом, князья не имели права ни облагать его повинностями, ни посягать на его имущества. Великое народное несчастие, – татарское нашествие, – принесло, таким образом, большую пользу «богомольцам» русской земли, которые, с своей стороны, умели ценить любезность «невƀрныхъ и нечестивыхъ царей». Это согласие между «нечестивыми царями» кочевых хищников и благочестивыми «богомольцами» оседлого русского населения на-время сделало нашу духовную власть почти независимой от светской[140]. Наши митрополиты опирались на татар, как римские папы опирались когда-то на франков. Разница, – и весьма существенная, – была тут лишь в том, что поддержка со стороны франков оказалась надежней татарской поддержки. При Иване III совершенно прекратилось
подчинение Московского княжества татарам. Тогда московскому духовенству пришлось рассчитывать только на свои собственные силы, которые были несравненно слабее сил римско-католического духовенства. Дальнейшее усиление власти московских государей все более и более ставило «богомольцев» в подчиненное отношение к ним. «Богомольцы» сделались de facto такими же царскими «холопями», как и служилые люди. Монастырские имения были секуляризованы в ХVIII веке, – что было облегчено развитием денежного хозяйства, – а все важные церковные дела стали решаться в конце-концов обер-прокурором, в роли которого выступали подчас даже военные люди. Это не могло нравиться «богомольцам». Однако, они до такой степени были верны преданиям, вынесенным ими, по выражению Чаадаева, из растленной Византии, что духовенство, как сословие, было и остается враждебным всякому освободительному движению. Это делает его одной из самых надежных опор реакции. Оно всегда смотрело на Восток, и ни о какой европеизации его не могло быть и речи. Мне, конечно, прекрасно известно, что и на Западе верховная власть в огромнейшем большинстве случаев победила центробежные стремления феодалов. Людовик XIV с полным основанием говорил: «L'йtat, c'est moi!» Но было бы крайне ошибочно отрицать на этом основании относительное, – однако, совсем немаловажное, – своеобразие русского исторического процесса. Подчиняя себе феодальное дворянство, французские короли не ограничивали его прав на землю и не принуждали его к службе[141]. Поэтому возвышение монарха во Франции не означало закрепощения государству дворянского сословия[142]. Это происходило, разумеется, не потому, чтобы французские короли больше дорожили человеческой или хотя бы только дворянской свободой. Они дорожили ею не больше, чем московские великие князья или восточные деспоты. Но они действовали при других общественно-политических условиях, и потому их действии привели к другим результатам. Экономическое развитие Франции шло несравненно быстрее, нежели экономическое развитие России; натуральное хозяйство гораздо быстрее, чем на Руси, заменялось в ней денежным, а это уже рано дало французским королям возможность учредить постоянную армию, расходы на содержание которой покрывались их денежными доходами. Уже Филипп Красивый имел у себя на службе немалое число наемников; с появлением же наемника изменялся и самый характер военной службы: из обязательной она превращалась в добровольную.
Другими словами, служилый человек уступал место солдату по профессии (»Soldat par mйtier»)[143]. Опираясь на своих солдат по профессии, французские короли мало-по-малу уничтожили старые политические права феодалов, но должны были оставить неприкосновенными их права на землю. Ни о каком превращении дворянских земель в государственный фонд, составляющий экономическую основу системы народной обороны, во Франции не могло быть и речи: при тогдашних экономических условиях этой страны такое превращение просто-на-просто никому не приходило в голову. Наоборот, экономические условия Московской Руси настоятельно его требовали. Поэтому вотчинное землевладение и отступило у нас так далеко перед поместным. Поэтому отношение служилого человека к князю вышло у нас так мало похожим на отношение французского дворянина к своему королю. Поэтому же, – вернее: между прочим поэтому же, – московский великий князь произвел на западного барона Герберштейна впечатление монарха, полнотою и об᾽емом своей власти превосходившего всех монархов всего цивилизованного мира.
Глава ХVII Хозяйственные причины слабости служилого сословия в его отношении к центральной власти. – Параллель с Востоком
История России была историей страны, колонизовавшейся при условиях натурального хозяйства. Колонизация означала, – как это заметил еще Соловьев, – однообразие занятий и постоянную подвижность населения, мешавшие, – как я прибавил бы от себя, – углубление тех классовых различий, которые возникают вследствие общественного разделения труда. А это значит, что, благодаря указанным условиям, внутренняя история России не могла отличиться интенсивною взаимною борьбою общественных классов. Источник политической силы высшего класса – его экономическое господство над значительною частью населения – не мог быть обильным и притом постоянно грозил изсякнуть благодаря непрерывному переходу этого населения на «новые места». Только в течение того, не очень продолжительного, времени, когда земледельческое население Великороссии отличалось довольно большой густотой, вследствие постоянного притока переселенцев из Юго-западной Руси в бассейн верхней Волги и невозможности дальнейшего переселения на север, северо-восток и юго-восток, высшему классу удалось расширить и упрочить свое непосредственное экономическое господство над низшим. Тогда сложилось там довольно крупное и влиятельное боярское землевладение. Но когда рост Московского государства устранил препятствия, временно приостановившие колонизацию, тогда земледельцы опять во множестве устремились на «новые места», и тогда опять затрещало и зашаталось экономическое господство землевладельцев. Как известно, крупное землевладение пережило тогда настоящий кризис. Чтобы найти выход из тяжелого положения, землевладельцы
должны были добиваться окончательного прикрепления крестьянина к земле, на что охотно согласилась центральная власть, сама бывшая, как мы знаем, крупнейшим землевладельцем и сама не менее бояр страдавшая от крестьянских переходов. Но чем нужнее был для крупных землевладельцев союз с центральною властью ради прикрепления к земле крестьянина, тем слабее должна была становиться их политическая оппозиция великому князю. На это с поразительной меткостью указал еще Ключевский. «Положение дел в селе давало тон политическому настроению боярства, направление его правительственной деятельности, роняло цену одних его интересов в пользу других, ставило, например, мысль об отношениях к селу впереди мысли об отношениях к дворцу, заставляло в этих последних отношениях искать опоры для обеспечения первых, а не наоборот: словом, землевладельческие тревоги и опасности, не делая боярина опытным и предусмотрительным сельским хозяином, делали его робким или равнодушным политиком»[144]. По мнению проф. Ключевского, село XVI века и надобно признать одной из главных причин того, что политический строй Московского государства не сделался аристократическим. Но положение села того времени было именно положением села в стране, колонизующейся при условиях натурального хозяйства. Стало быть, эта важная причина сама является одним из следствий подобной колонизации. Другой, не менее важной, причиной, тоже составляющей следствие колонизации, надо признать обилие тех свободных земель, на которые могло наложить свою руку московское правительство в открывшихся перед ним во второй половине XVI века новых лесных и степных местностях. Наделяя этими землями низшие и средние слои служилого класса, оно создавало себе в лице этих слоев прочную опору для борьбы с высшим, аристократическим слоем того же класса, с «княжатами» – боярами. Тот факт, что во второй половине XVI века вотчинное землевладение далеко отступило назад перед поместным, в переводе на политический язык означал, что дворянин заставил очень сильно попятиться боярина и помог главе государства беспощадно раздавить все политические претензии «княжат». Во Франции королевская власть тоже не избегает союза с низшим дворянством. В лице Карла VII она даже ищет такого союза. Но во Франции развитие денежного хозяйства рано дает королям возможность создать постоянную армию, составленную, как сказано выше, не из служилого дворянства, а из профессиональных солдат разночинного происхождения. Весьма характерно, что тот же самый Карл VII, королевский совет которого состоял из представителей низшего дворянства и третьего сословия, очень много сделал для реорганизации военной силы в указанном смысле[145]. А реорганизация армии в этом смысле все более и более побуждала французскую королевскую власть и давала ей все большую и большую возможность опираться в своей борьбе с аристократией не столько на
мелкое и среднее дворянство, на которое опирались московские «самовластцы» сколько на третье сословие. Вообще одна из главных отличительных черт французского феодализма, сравнительно с русским, заключается в том, что в недрах французского феодального общества возникло гораздо более многочисленное, богатое и сильное третье сословие, нежели в удельной Руси. Эта особенность французского феодализма не могла не отразиться на дальнейшем ход развития французского общества и французской королевской власти. Представительство на московских земских соборах XVI века является представительством почти исключительно служилых людей[146], между тем как во Франции третье сословие уже в половине XIV века играет в собраниях Генеральных Штатов очень яркую роль, а в следующем столетии его представители на этих собраниях сознательно оказывают королю весьма существенную поддержку в борьбе с дворянством[147]. Сообразно с этим неодинаково и отношение представительных собраний к центральной власти. «Земский собор XVI века был, – говорит проф. Ключевский, – в точном смысле совещанием правительства с собственными агентами»[148]. Неудивительно, что «агенты», в ответ на правительственные вопросы, высказывались в том духе, что они готовы за государя головы свои класть, а впрочем, во всем воля божья да государева[149]. В Москве XVI века думали, что «народ не может иметь своей воли, а обязан хотеть волею власти, его представляющей»[150]. Между тем в Париже во второй половине XIV века канцлер де-Дорман, – тоже в своем роде «агент» верховной власти, – чтобы успокоить волнующихся горожан, нашел нужным польстить им речью, в которой провозглашал, что «короли властвуют лишь волею народов и что только сила народов делает их страшными»[151]. Служилые люди Московского государства недаром называли себя великокняжескими, а потом царскими «холопями». Они были закрепощены государству так же, как были закрепощены ему крестьяне. На каждом из этих двух сословий лежал гнет, к концу XVI в. становившийся все более и более тяжелым. Возрастание тяжести этого гнета находит свое об᾽яснение в том, уже не раз упомянутом обстоятельстве, что Россия была страной, колонизовавшейся при условиях натурального хозяйства. С.В.Рождественский вполне правильно говорит, что недостаток денежных средств был одной из самых характерных черт экономического положения служилого класса в XVI в. «Самый же этот недостаток, – прибавляет он, – объясняется несоответствием между постоянно развивающимися и прогрессирующими потребностями государства и общества, с одной стороны, и слабым развитием, инертностью народного хозяйства – с другой, преобладанием хозяйства натурального над денежным, которого требовали новые обстоятельства»[152].
На Востоке население тоже закрепощено было государству. Но, не говоря уже о большем плодородии почвы, восточные деспотии не имели таких соседей, которые превосходили бы их по своему культурному развитию. Напротив, каждое из этих цивилизованных государств имело соседями главным образом варваров, значительно уступавших им в смысле культуры. Правда, кочевые варвары нередко заставляли сильно страдать земледельческое население восточных деспотий или даже покоряли его на более или менее продолжительное время своей власти. Для примера можно указать на завоевание Египта «пастухами», о которых Манефон говорит почти в таких же выражениях, как наши летописи о монголах. Но пока тот же Египет не сделал завоеваний в Азии, у него совсем не было цивилизованных соседей. В этом отношении он был гораздо счастливее Московского государства, которому на своей западной границе приходилось иметь дело с соседями, гораздо дальше его ушедшими по пути цивилизации. Борьба с этими соседями была еще несравненно тяжелее, нежели так дорого стоившая русскому народу борьба с кочевниками. Покорившая Казань и Астрахань Москва XVI века потерпела жестокую неудачу в решительном столкновении со своими западными соседями. Чтобы отстоять свое существование в борьбе с противниками, далеко опередившими ее в экономическом отношении, ей пришлось посвятить на дело самообороны, – посредственно и непосредственно, – такую долю своих сил которая, наверно, была гораздо больше, нежели доля, употреблявшаяся с тою же целью населением восточных деспотий. В этом заключается весьма достойная нашего внимания относительная особенность нашего исторического процесса, сравнительно с таким же процессом восточных деспотий. При сопоставлении этой особенности с тою, которую мы отметили, сравнивая общественно-политический строй Московского государства со строем западно-европейских стран, у нас получается следующий итог: государство это отличалось от западных тем, что закрепостило себе не только низший земледельческий, но и высший, служилый класс, а от восточных, на которые оно очень походило с этой стороны, – тем, что вынуждено было наложить гораздо более тяжелое иго на свое закрепощенное население.
Глава XVIII Хозяйственные условия развития города в Северо-восточной Руси. – Город и центральная власть
Пока у нас господствовало убеждение в абсолютном своеобразии нашего исторического процесса, общественная роль городского населения северо-восточной Руси считалась близкой к нулю. «Зачем нам города? – спрашивал друг и единомышленник А.И.Герцена Н.П.Огарев. – Наши города только правительственная фантазия, а в действительности они не имеют ни значения, ни силы»[153]. (Само собою разумеется, что во всех рассуждениях этого рода делалось молчаливое исключение для вольных городов Новгорода и Пскова). Это была большая ошибка, Даже на «верхне-волжском суглинке» наша городская жизнь никогда не была
совершенно ничтожной. Теперь уже можно признать бесспорным, что города северо-восточной Руси вовсе не были теми более или менее обширными деревнями, на которые их так охотно принимали теоретики русской самобытности. Этой Руси тоже не чуждо было экономическое разделение труда между городом и деревней. «Если тут и была главным образом разница не качественная, а количественная, – говорит Н.Д.Чечулин, – т.-е. если мы и находим в городах, как в селах, жителей с одними и теми же правами и особенностями, а частью даже и занимавшихся одинаково земледелием и ремеслами, так что только размеры поселений и большее или меньшее развитие того или другого рода занятий жителей отличало город от деревни, то, во всяком случае, и такая количественная разница была тут настолько значительна, что дает нам полное право рассматривать положение городов отдельно от изучения положения сел и деревень[154]. Хотя ремесленники, населявшие города северо-восточной Руси, подобно ремесленникам средневековых городов Западной Европы, занимались также и земледелием, однако, главным источником их дохода был, надо думать, ремесленный, а не земледельческий труд. Г. Чечулин дает длинный список названий тех ремесл, какие встречались в русских городах. Тут мы видим 34 названия ремесл, относящихся к производству и обработке с᾽естных припасов; 32 ремесла, посвященных производству одежды; 25 ремесл, относящихся к строительному делу и производству домашней утвари, и, наконец, 119 названий разного рода других ремесл, в роде булавочников, гребенников, мечников, сабельников, лучников, стрельников, зольников, извозчиков, огородников, колокольников, садовников, струнников, стекольников, стригольников, угольников, фонарников и т.д., и т.д.[155]. Г.Чечулин прибавляет: «В данных о ремесленниках, отнесенных нами ко второй группе, большое число сапожников... невольно заставляет думать, что тогда очень многие носили сапоги» (стр. 340). Короче, признавая, что большая часть ремесл посвящалась в XVI веке производству предметов первой необходимости, г. Чечулин решительно отвергает то мнение, что «тогдашняя Русь едва умела обрабатывать самые грубые ткани и что вообще ремесленной деятельности тогда почти не существовало»[156]. Мы находим в его интересном исследовании еще более важное для нас указание на то, что тогда в городах встречалось много, по его словам, даже очень много, – книг[157]. И хотя книги эти были, как видно, духовного содержания, но все-таки наличность значительного числа их в городах показывает, что в Московской Руси, как и везде, городская жизнь вызывала у населения более или менее разнообразные и настоятельные умственные запросы. Словом, полного своеобразия отнюдь не было и в этой области; но и в ней наблюдается очень важное относительное своеобразие. Все те, указанные выше, разнообразные причины, которые замедляли развитие производительных сил русского населения, ослабляли значение городов
в исторической жизни Северо-восточной Руси. То, что С.В.Рождественский назвал «инертностью народного хозяйства», неизбежно вело за собою политическую инертность городского населения. Пушкин был прав. Наши города не были тем, чем были западно-европейские городские общины. Если к началу XVI в. в подмосковных городах замечается довольно оживленная и разнообразная ремесленная деятельность, то к концу века они сильно пустеют. «Прогрессирование этого запустения, – говорит г. Чечулин, – видно, как из того, что всего менее пустоты в Серпухове, описание которого (в писцовых книгах. Г. П.) относится к середине века, а более всего в Коломне и Можайске, описание которых относится к концу века, так и из данных о Муроме по двум описям и, наконец, еще из указаний, находящихся в можайской книге, когда и как именно запустел тот или другой двор». Факт запустения подмосковных городов подтверждается, по словам того же исследователя, скоплением населения в пограничных городах, в которые устремлялись выходцы из центральных местностей[158]. Чем более пустели подмосковные города, тем более падало их значение в общественной жизни Московского государства. История России была историей страны, в которой на много столетий затянулся процесс колонизации. Колонизация совершалась в ней при условиях натурального хозяйства. Развитие городов нарушало однообразие этих условий, выражая собою прогресс экономического разделения труда и успехи товарного производства. Но, как мы только-что видели, колонизация вызвала в XVI в. запустение подмосковных городов, а это значит, что она замедлила развитие денежного хозяйства и тем поддержала или даже увеличила «инертность» народно-хозяйственной жизни. Чтобы положить предел запустению городов центральных местностей, московское правительство обратилось к тем же мерам, с помощью которых оно боролось против запустения «села»: посадский человек был также прикреплен к месту своего жительства, как и крестьянин. Горожанин очутился в таком же подневольном положении, как «государев сирота» – крестьянин и «государев холоп» – служилый человек[159].
Закрепощение распространилось на все стороны общественной жизни Московского государства. Что положение в нем «торгового мужика» было менее благоприятно для экономической деятельности этого последнего, нежели положение новгородского или псковского купца, который пользовался выгодами вольной общественной жизни, это не нуждается в доказательствах. Но сила была не на стороне наших вольных городских республик. Московские «самовластцы» наложили на них свою тяжелую руку, а как отразилось это на характере их населения, показывают следующие отзывы Герберштейна. О Новгороде: «народ был здесь весьма образованный (humanissima) и честный, а теперь стал самый испорченный, заразившись, без сомнения, московскою порчею, которую принесли с собою приходящие сюда московиты»[160]. О Пскове: «образованность и мягкие нравы псковитян заменились московскими нравами, которые почти во всем хуже. Ибо в своих купеческих сделках псковитяне показывали такую честность, чистосердечие и простоту, что цена товару у них показывалась без запросу и без всякого многословия ради обмана покупателя»[161]. Торжество восточных порядков обусловило собою распространение восточных нравов. Иначе и быть не могло. На Западе городское население пополнялось выходцами из деревень. По мере того, как развивались и укреплялись московские порядки, такой рост города на счет деревни все более и более затруднялся на Руси тем простым обстоятельством, что все прочнее и короче становилась цепь, привязавшая крестьянина к земле, все равно к помещичьей или к государственной. Закрепощение населения явилось весьма сильным препятствием для дальнейшего развития товарного производства. Однако, оно не могло совсем остановить его. Потребность населения в некоторых продуктах ремесленного труда не могла быть ни удовлетворена, ни устранена наложением на русских обывателей крепостного ига. Неблагоприятные условия, сильно замедлявшие рост городов Московского государства и развитие в них ремесленной деятельности, вызвали распространение кустарной промышленности в селах и деревнях. Вследствие этого экономическая жизнь крепостной России приобрела своеобразный характер, парадоксальности которого не видели писатели, любившие ссылаться на низкий процент русского городского населения как на лучшее доказательство того, что «Россия – не Запад» и что русский человек будто бы знать не хочет промышленного труда, исключительно посвящая себя земледельческому. В 1861 г. А.Корсак, на основании статистических данных, относившихся к 1856 г., показал, что в самых промышленных губерниях пропорция городского населения была меньше средней для целой России: в Орловской губернии городское население равнялось 9,77%, в Харьковской – 10,72%, в Киевской – 10,88%, в Таврической – 18,38%, а в Херсонской – даже 21,35%, между тем в Ярославской губернии оно не превышало 8,2%, в Московской (за исключением Московского уезда) – 6,37%, а во Владимирской – 5,87%[162].
Выходило, что если наши города были по своему экономическому значению похожи на деревни, – как в этом уверяли идеологи русской самобытности, – то деревни наших центральных губерний в значительной степени приняли на себя экономическую роль городов, взявшись за промышленную деятельность[163]. Что же это значило? Только вот что. Неблагоприятные условия исторического развития сильно замедляли, еще начиная с киевского периода, рост производительных сил, находившихся в распоряжении русского народа. Однако, хотя и медленно, силы эти все-таки росли как в Поднепровьи, так и, впоследствии, на «верхне-волжском суглинке». При росте производительных сил неизбежен процесс отделения промышленного труда от земледельческого. Этот процесс наблюдается и в Киевской, и в Московской Руси. Но обстоятельства, обусловившие собою закрепощение жителей Московского государства, привели к тому, что процесс этот был в свою очередь хотя и не вполне остановлен, однако, значительно задержан. Промышленная деятельность не сосредоточивалась в городах, а распространялась в деревенском населении. Ближайшим следствием этого было замедление технического прогресса. Известно, что наши кустари трудились с помощью самых элементарных орудий. С экономической стороны распространение кустарной промышленности означало внедрение в деревню тех противоречий, которые везде порождаются экономическим прогрессом и на мнимом отсутствии которых в России основывались упования теоретиков нашей полной экономической самобытности. Но так как при указанных условиях экономический прогресс совершался у нас очень медленно, то и противоречия, порождавшиеся им в экономическом быту деревни, долго оставались в зачаточном состоянии. Производитель, отдававший значительную часть своего рабочего времени промышленному труду, продолжал оставаться крестьянином. И хотя ему самому нередко приходилось прибегать к покупке рабочей силы других, подобных ему, производителей, он был всецело во власти ростовщического капитала, представителем которого выступал в деревне кулак-скупщик. Ростовщический капитал, жестоко эксплуатируя производителя, не улучшает при этом способов производства. Поэтому его господство над промышленным трудом производителя, крепко привязанного государством к «верхне-волжскому суглинку», составляло новое препятствие для технического и экономического прогресса. В то же время жизнь в деревне лишала производителей возможности того об᾽единения своих сил для борьбы с эксплуататорами, которое так облегчается жизнью в крупных городских центрах, и чрезвычайно затрудняла развитие их сознания. Производитель, который нередко извлекал из промышленного труда значительно большую долю своего годового дохода, продолжал хранить все суеверия и все политические предрассудки земледельца. Нечего и говорить, что его умственная отсталость была чрезвычайно полезна для того, общественно-политического порядка, который посадил его на цепь крепостного права. Она ручалась за его прочность.
Глава XIX Социально-политический быт Московской Руси и его влияние на исторический процесс собирания русских земель
Прежде, чем итти дальше, полезно подвести итог всему тому, что узнали мы о московских порядках. Не менее полезно выразить этот итог словами того исследователя, который своей работой о феодализме в древней Руси нанес один из самых сильных ударов славянофильской теории нашей абсолютной самобытности. «Основным началом русского общественного строя московского времени было полное подчинение личности интересам государства. Внешние обстоятельства жизни Московской Руси, ее упорная борьба за существование с восточными и западными соседями требовали крайнего напряжения народных сил. В обществе развито было сознание о первейшей обязанности каждого поданного служить государству по мере сил и жертвовать собою для защиты русской земли и православной христианской веры. Служилый человек обязан нести ратную службу в течение всей своей жизни и «биться до смерти с ногайскими или немецкими людьми не щадя живота». Посадские люди и волостные крестьяне должны жертвовать своим достоянием для помощи ратным людям. Все классы населения прикреплены к службе или тяглу, чтобы «каждый в своем крепостном уставе и в царском повелении стоял твердо и непоколебимо»[164]. Полное подчинение личности интересам государства не было вызвано какими-нибудь особыми свойствами русского «народного духа». Оно явилось вынужденным следствием тех условий, при которых пришлось вести борьбу за свое историческое существование русским людям, поселившимся в верховьях Волги и мало-по-малу об᾽единенным Москвою. Раз возникнув, следствие этого само сделалось причиной, сильно замедлявшей дальнейший экономический и культурный прогресс Великороссии. Но это не все. Оно затрудняло, кроме того, ту историческую работу собирания русских земель, за которую уже рано принялась Москва и которая до конца первой трети XVI в., вообще говоря, подвигалась вперед очень быстро. Собирая русские земли, Московское государство столкнулось с Литвою, которая тоже собирала Русь и, – после того, как пала независимость Галиции, – собирала так успешно, что скоро в Литовском государстве стало преобладать русское, – хотя и не великорусское, – население[165]. «Об᾽единение западно-русских земель вокруг Литвы было, в сущности, восстановлением разрушенного политического единства киевской эпохи, – говорит профессор М.К.Любавский, – нахождением утраченного политического средоточия»[166]. По мнению профессора Любавского, разница была только в том, что это средоточие помещалось теперь не на реке Днепре, а на реке Вилии. Однако, – что хорошо видно между прочим и из
его собственного изложения, – разница была не только в этом. В течение киевского периода попытка об᾽единения русских земель делалась исключительно силами русского населения. Попытка эта кончилась неудачей главным образом благодаря напору кочевников. После того возникло два средоточия: одно – в бассейне верхней Волги, другое – сначала в Галиции, а потом «на р. Вилии». Средоточие «на реке Вилии» отличалось от верхне-волжского тем, что об᾽единяло в себе не одни только русские силы. Силы эти сочетались в нем с литовскими, которым, как известно, принадлежал даже почин об᾽единения. Это сочетание сил двух различных племен не обходилось без столкновений между ними, особенно участившихся после унии Литвы с Польшею в конце XIV в. Литовские аристократы, опираясь на поддержку со стороны польских, не без успеха старались ослабить в своих интересах государственное значение аристократии белорусской и малорусской. Москва воспользовалась этими столкновениями для того, чтобы усилиться на счет Литвы. Тяготением к ней западно-русских аристократов об᾽ясняются поразительные успехи Ивана III в борьбе с великими князьями литовскими, Казимиром и Александром. Тяготение продолжалось и при сыне Ивана III. Но замечательно, что уже в 1514 г. смоленская аристократия склоняется на сторону литовского короля. Не менее достойно замечания и то, что сильнейшее поражение, испытанное тогда Москвою, было нанесено ей литовским войском под предводительством православного западно-русского князя Константина Острожского. Карамзин чувствительно замечает по этому поводу: «На другой день Константин торжествовал победу над своими единоверными братьями и русским языком славил Бога за истребление россиян». Но радость Константина по случаю истребления им единоверных ему «россиян», как и вся настойчивость этого князя в борьбе с Москвою, показывает, что уже тогда многие западно-русские аристократы предпочитали литовские порядки московским. Это нисколько не удивит нас, если мы вспомним, что именно в эту эпоху московские служилые люди все больше и больше становились бесправными «холопями» великого князя, между тем как служилое сословие литовско-русского государства приобретало одну вольность за другою. Огромная разница общественно-политического положения служилого класса в Москве, с одной стороны, и в Литве – с другой едва ли не с наибольшею яркостью обнаружилась во второй половине XVI столетия, когда в Москве Иван Грозный своей опричниной разбил боярское землевладение и окончательно превратил служилых людей в царских холопов, между тем как в Литве Берестейский сейм 1566 г. дал шляхте право безусловного распоряжения своим имуществом. И.И.Лаппо превосходно оттеняет исторический смысл провозглашения этого права. «Оно было, – говорит он, – знаком превращения поданных, владельцев земли, верховным собственником которой был великий князь, в свободный народ – в собственника своей земли, своих «оседлостей». Из подданных великого князя, как лица, шляхта литовская, в признании закона, обратилась в подданных государства и государя, как его главы»[167].
При этом отношение шляхты к великому князю, как к главе государства, определялось тем, что в первом ряду ее политических прав стояло право выбора себе государя. Само собою понятно, что западно-русская шляхта не могла не видеть огромной выгоды своего положения в Литве. Дело было вовсе не в том, что тот или другой московский великий князь или царь склонялся к тирании: это могло быть сочтено за простую случайность. Дело было в том, что при тогдашних московских порядках служилый человек не мог не быть рабом даже при государе, лично вовсе не склонном к тирании (в роде того, каким был впоследствии «тишайший» Алексей Михайлович). Вот это и оттолкнуло от Москвы высший класс литовской Руси. Исследователи, жалующиеся на то, что класс этот ополячился, забывают одно: прежнее тяготение этого класса к Москве уступило место его отвращению от нее значительно раньше чем совершилось его ополячение. В XVI в. только немногие представители западно-русской шляхты усвоили себе польский язык. Третий Литовский Статут, составленный в царствование Стефана Батория, требовал, подобно второму Статуту, чтобы земский писарь «все листы, выписы и позвы» писал «по руску литерами и словы рускими». По замечанию И.И.Лаппо, «польский язык и польские обычаи могли считаться принятыми литовской шляхтой лишь во второй половине и в конце XVII столетия, что выразилось и в coaequatio jurium конца этого века»[168]. Отворачиваясь от Москвы, западно-русская шляхта отвернулась в то же время и от православия. Она стала увлекаться реформацией. И нетрудно понять, что в этом ее увлечении выражалась та же любовь к «золотой вольности»: для нее, как и для польской шляхты, кальвинизм был средством борьбы с духовенством[169]. Короче, общественно-политические порядки, восторжествовавшие в Москве, убили всякое сочувствие к ней со стороны высшего сословия единоплеменной литовской Руси и тем толкнули это сословие в об᾽ятия Польши, которая была классической страной шляхетских вольностей. В нисшем сословии литовско-русского населения сочувствие к московским единоплеменникам и единоверцам сохранилось на гораздо более продолжительное время. Оно поддерживалось в нем борьбою с ополяченной и окатоличенной западно-русской шляхтой. Но и в нем это сочувствие подвергалось жестокому испытанию в случаях близкого соприкосновения с представителями московской администрации, т.-е. знаменитой «московской волокиты». Когда началась в XVII в. война с Польшей из-за Малороссии, «белоруссы сами призывали великоруссов, сносились с ними, изменяли полякам, но как только они почувствовали на себе тяжесть московского управления, они очутились в безвыходном положении и начали мало-по-малу снова тянуть
к Польше»[170]. Местами отношения между белоруссами и великоруссами обострялись до того, что, например, могилевцы перебили московский гарнизон. Это об᾽ясняет нам, почему война, первоначально веденная в Белоруссии с таким блистательным успехом, потом привела к неудаче; и почему, – как замечает г. Довнар-Запольский, – соединение Великой России с Белоруссией не могло произойти при Алексее Михайловиче[171]. Совершенно то же видим и в Малороссии. Казацкая старшина сначала охотно идет «под высокую руку» московского царя, а потом, отведав московских порядков, опять начинает тянуть к Польше. Благодаря этому, правобережная Украина оказывается надолго потерянной для русского государства. Петровская реформа дала этому государству материальную силу, необходимую для продолжения московской политики собирания русских земель. Петербург почти доделал то, чего не могла доделать Москва. Он об᾽единил все русские земли, за исключением Галичины и Угорской Руси. Но ополяченная часть населения западной России сохранила, а, может быть, даже усилила свои польские симпатии. Она не принимала никакого участия в духовной жизни Руси петербургского периода, более или менее деятельно стремясь к восстановлению старой «Речи Посполитой» или хотя бы только мечтая о таком восстановлении. Настроенная временами очень революционно, она не принимала, однако, никакого участия ни в литературных, ни в политических движениях русского «общества», опять сделавшегося более доступным для западно-европейского влияния со времени реформы Петра, а особенно с конца XVIII века. Это не могло не уменьшать быстроты культурного движения в течение петербургского периода. Получалось вот что. Присоединив к своему государству западно-русские земли, петербургское правительство не только увеличило этим силу своего сопротивления возможному внешнему неприятелю. Оно, кроме того, упрочило свою позицию в борьбе с теми мыслящими элементами, которые понемногу начинали так или иначе выступать против господствовавшего в России всестороннего крепостничества. Между тем почва, на которой вырастали эти оппозиционные элементы, ограничивалась лишь частью русского государства, так как другая его часть жила не русскими, а польскими духовными интересами. Русское государство оказывалось относительно более бедным культурными и оппозиционными силами, чем оно было бы при других условиях своего развития. Таким образом, почти доконченное Петербургом собирание русских земель изменило соотношение общественных сил в России не в пользу прогресса, а в пользу застоя. Эта, неблагоприятная для прогресса, перемена в соотношении общественных сил явилась как бы историческим наказанием всего русского народа за то, чем погрешила собственно только великорусская его часть: за продолжительное господство в Москве общественно-политического строя, свойственного восточным деспотиям. Разумеется, так было только до тех пор, пока центр тяжести русской культурной жизни оставался в пределах
высшего общественного сословия, потому что только это сословие тяготело к западной России, к Польше. Но русская культура долго оставалась почти исключительно дворянской культурой. Ниже, рассматривая различные направления русской общественной мысли, мы увидим, как мучительно сознавалось наиболее выдающимися ее представителями неблагоприятное для прогресса соотношение русских общественных сил. Я считал поэтому не лишним отметить здесь то обстоятельство, которое, несомненно, укрепляло неблагоприятный характер этого соотношения, а в то же время совершенно упускалось из виду историками нашего общественного развития. Кроме того, ополячение наиболее образованных элементов западно-русского населения было фактом, значительно осложнившим вопрос о польско-русских отношениях в России. Так как нам, конечно, надо будет говорить между прочим и об этом вопросе, – с которым пришлось считаться уже декабристам, – то нельзя было оставить без анализа социально-политические причины, породившие названный факт ополячения. После сказанного ясно, что у нас нет никакого основания сваливать на поляков ответственность за этот факт.
Глава XX Возникновение казачества. – Роль казацких движений в процессе развития русской общественной жизни
Предыдущее изложение, надеюсь, достаточно показало читателю, в какой мере может быть признана правильной та мысль Соловьева, что ход событий постоянно подчинялся у нас, как и везде, природным условиям. Относительное своеобразие русского исторического процесса, в самом деле, об᾽ясняется относительным своеобразием той географической среды, в которой пришлось жить и действовать русскому народу. Ее влияние было чрезвычайно велико. Однако, оно было чрезвычайно велико единственно потому, что относительное своеобразие природных условий определило собою относительно своеобразный ход русского экономического развития, в результате которого явился не менее своеобразный социально-политический строй Московского государства. При этом Соловьев недостаточно оценил относительное своеобразие московского общественно-политического быта. Описывая борьбу русских племен с азиатскими кочевниками, он говорит между прочим: «От сороковых годов XIII века до исхода XIV берут перевес азиатцы в лице монголов; с конца же XVI века пересиливает Европа, в лице России»[172]. Но мы видели, что когда оседлая русская Европа получила возможность справиться с кочевой Азией, то ее собственные общественно-политические отношения оказались очень похожими на те, которые господствовали в азиатских деспотиях. Стало быть, Европа победила «азиатцев» лишь потому, что сама сделалась Азией. В действительности, та победа над «азиатцами», которую отмечает здесь Соловьев, совсем не беспримерна и в истории Востока. Земледельческое население и там оказывалось сильнее кочевников после того, как ему удавалось об᾽единить свои силы в больших деспотических государствах. Особенность
русского исторического процесса, – на этот раз выгодная для прогресса особенность, – заключается здесь в том, что после того, как оседлая русская Европа весьма значительно уподобилась оседлой Азии, ее общественное развитие стало очень медленно, но неизменно поворачиваться в сторону европейского Запада. Собственно азиатские государства только с половины XIX века стали давать нам, хотя бы в лице Японии, примеры подобного поворота в сторону европеизации. Но Соловьев не ограничивается изучением влияния кочевников на ход событий в русской истории. Попутно он выдвигает еще другой вопрос, не менее интересный. Он пишет: «Природа страны условила еще другую борьбу для государства, кроме борьбы с кочевниками: когда государство граничит не с другим государством и не с морем, но соприкасается со степью, широкою и вместе привольною для житья, то для людей, которые по разным причинам не хотят оставаться в обществе или принуждены оставить его, открывается путь к выходу из государства и приятная будущность – свободная, разгульная жизнь в степи. Вследствие этого южные степные страны России, по течению больших рек, издавна населялись казацкими толпами, которые, с одной стороны, служили пограничною стражею для государства против кочевых хищников, а с другой, признавая только на словах зависимость от государства, нередко враждовали с ним, иногда были для него опаснее самих кочевых орд. Так, Россия вследствие своего географического положения должна была вести борьбу с жителями степей, с кочевыми азиатскими народами и с казаками, пока не окрепла в своем государственном организме и не превратила степи в убежище для гражданственности»[173]. Спора нет: только благодаря указанным здесь особенностям географической среды и возможно было возникновение казачества. Прав Соловьев и в том, что казаки были для русского государства подчас опаснее самих кочевых орд. Однако, этими указаниями еще не исчерпывается вопрос о роли казацких удальцов в истории русского общественного развития. А так как он сильно интересовал когда-то наших народников, то нам приходится досказать то, чего не досказал покойный историк. По его словам, казачество составилось из таких людей, которые по разным причинам не хотели оставаться в обществе или должны были уйти из него. Но между этими разными причинами легко заметить одну, самую важную: тяжелое, а иногда и прямо невыносимое положение нисшего класса, из которого главным образом и вербовалось казачество. Мы видели, что возраставшее запустение государственного центра вынудило московское правительство прикрепить крестьян и посадских людей к месту их жительства. Человек, которому становилась невыносимой его жизнь на крепостной цепи, имел перед собой только один выход: побег. А так как московское правительство ловило беглых и, учинив им надлежащее наказание, снова сажало их на цепь, то им нужно было скрываться «за
пределы досягаемости», иначе сказать – за границу Московского государства. Вот тут-то и выручали их «южные степные страны России по течению больших рек». Чем больше возрастал гнет, лежавший на нисшем классе Московского государства, тем больше являлось побуждений для побега и тем многочисленнее становилось население по берегам казачьих рек, т.-е. Дона и Яика, Волги и Терека. А чем многочисленнее становилось население этих местностей, тем более сильный отпор могло оно давать Москве, когда та показывала намерение поставить его под свою «высокую руку». Мало того. Предприимчивые, подвижные, по необходимости воинственные, казаки временами переходили в наступление и тогда они действительно становились для Москвы опаснее, чем «кочевые орды», которые впрочем нередко выступали их союзниками в борьбе с нею. Они много причинили ей хлопот в Смутное время, хорошо «тряхнули ею» в царствование Алексея Михайловича (Ст. Разин), а потом не на шутку перепугали и Петербург в царствование Екатерины II (Е.Пугачев). Их сила заключалась в недовольстве закрепощенного населения. Крестьянские и посадские люди видели в них мстителей за народное горе. Описывая движение сторонников Разина, сам Соловьев так характеризует отношение к нему народа: «Заслышав приближение этих воровских шаек в городах, чернь бросалась на воевод и на приказных людей, впускала в город казаков, принимала атамана вместо воеводы, вводила казацкое устройство»[174]. A это значит, что казачество, даже когда оно шло против русского государства, не могло быть отнесено к одному разряду с его внешними врагами. Вражда казачества направлялась преимущественно против угнетателей народа. По этой причине народные песни и величали казаков «удалыми, добрыми молодцами», и по той же причине казацкие движения были так сильно идеализированы впоследствии нашими народниками. Теоретики народничества видели в Разине, Булавине и Пугачеве воплощение народного протеста и народных революционных стремлений. Но они в свою очередь ошибались. Казаки жестоко мстили московским бюрократам за народное угнетение. Однако, восставая против него, они в лучшем случае могли бы только разрушить существовавший общественно-политический порядок. Они неспособны были заменить его новым. Чтобы заменить его новым, они должны были бы нести с собою новый способ производства, а в том быту, который они создали в своих привольных степях, на новый способ производства не было даже и намека. И разрушенный ими общественно-политический порядок постепенно восстановлялся бы по мере того, как население убеждалось бы в невозможности оставлять неудовлетворенными те общественно-политические нужды, которыми был некогда вызван к жизни этот порядок. Можно с уверенностью прибавить, что поскольку казаки продолжали бы стоять во главе народа, они сами должны были бы взяться за восстановление того, что им удалось бы разрушить. Не мешает напомнить, как излагает патриарх Гермоген содержание тех «воровских листов», с которыми обращались в Смутное время казаки Болотникова к закрепощенному классу населения. По его словам,
они внушали этому классу «всякие злые дела на убиение и на грабеж». Какая же была цель этих злых дел? Патриарх говорит, что авторы листов «велят боярским холопам побивать своих бояр и жены их, и вотчины, и поместья им сулят; и шпыням и безымянником – вором велят гостей и всех торговых людей побивати и животы их грабити, и призывают их воров к себе и хотят им давати боярство, и воеводство, и окольничество, и дьячество»[175]. Очень легко понять, что нельзя было бы наградить восставших боярских холопов вотчинами и поместьями, не восстановив подневольного земледельческого труда, которым главным образом и вызывалось крестьянское недовольство. Весьма вероятно, что патриарх Гермоген мало заботился о дословной точности в передаче содержания «воровских листов». Но вряд ли можно усомниться в том, что он точно уловил их общий дух. В доказательство можно сослаться на малороссийское казачество, судьба которого отличается от судьбы великорусского только тем, что ему удалось то, чего никогда не удавалось этому последнему: добиться хотя бы частичной победы. «Кто козак – будет вольность казацкую иметь, а кто пашенный крестьянин – тот будет должность обыклую царскому величеству отдавать», – так говорил Богдан Хмельницкий в одной из договорных статей, предложенных им московскому правительству в 1654 году. А послы «козацкого батька» выпрашивали у московского правительства для себя грамот на имения «и домогались, чтобы в них было специально упомянуто о неограниченных правах их над крестьянами, какие окажутся в этих имениях или будут ими наново поселены»[176]. Получалось нечто, отчасти похожее на то, что имело иногда место в античном мире. Известно, что в некоторых античных городах-государствах восставшим рабам удалось победить своих бывших господ. Но, оказавшись победителями, бывшие рабы сами обращались к рабскому труду и сами становились рабовладельцами. Проф. Грушевский говорит о малороссийском казачестве: «Оно смотрело на себя как на высшее, привилегированное сословие. Хотя оно боролось против польского шляхетского режима, но в его представлении общественные отношения укладывались не иначе, как по типу того же сословного государства, Польши прежде всего, в порядках которой они выросли»[177]. Но не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание. Для того, чтобы в представлении казаков общественные отношения сложились не по типу сословного государства, нужна была наличность совсем другого способа производства. А это необходимое условие тогда совершенно отсутствовало. И потому, – говоря словами того же проф. Грушевского, – «начиная с Хмельницкого и кончая последним украинским демагогом Петриком (конца XVII в.), украинская интеллигенция вообще и козацкая старшина специально не представляла себе общественного строя без сословных привилегий, без подданных и господ, и их чувство оскорблялось только тем, что господами были поляки, люди чужой народности и веры, или тем, что претендовали на панство люди худородные, незаслуженные»[178]. Между тем малорусское казачество было
значительно культурнее великорусского, потому что западная Русь была тогда развитее в экономическом отношении. Приняв во внимание все это, мы увидим, как естественно было то, что, напр., в 1611 г. московские люди, шедшие на выручку Москвы, предлагали тем казакам, которые давно служат Московскому государству, «верстаться поместными и денежными оклады и служить с городы»[179]. Великорусских казаков отнюдь не могло удивить такое предложение, так как и в их головах служба государству связывалась с тою же мыслью о неизбежности подчинения крестьянства служилому классу, какая сидела в головах малороссийской казацкой старшины. Но именно потому надо признать, что, как бы ни было велико потрясение государственного организма, вызывавшееся тем или другим крупным казацким восстанием, революционного в таком восстании было всегда очень мало. Не говорю: не было совсем. Поднимая против государства угнетенный класс, казачество тем самым будило его сознание и делало его более готовым и более способным постоять за себя против своих угнетателей. Вследствие этого в процессе восстановления им же разрушенного общественно-политического порядка казачеству пришлось бы до известной степени считаться с народною массой и сделать ей некоторые уступки. Недаром послы Хмельницкого, вернувшись на Украину, держали до поры, до времени в секрете те грамоты, которые были им выданы в Москве и которыми закрепощались их крестьяне[180]. Но, как бы там ни было, существенных перемен казачество решительно не могло принести в случае своего торжества по той очевидной причине, что оно своими движениями отнюдь не подготовляло торжества нового способа производства. Если мы сравним казацкие восстания с освободительным движением городски общин и третьего сословия в передовых странах европейского Запада, то заметим новый, – и опять очень значительный, – «европейский недочет» в русской истории. Городские общины и третье сословие западных стран, борясь с феодализмом и с пережитками феодальных отношений, делали как-раз то историческое дело, выполнение которого не могло выпасть на долю казаков: они подготовляли торжество нового способа производства, новых производительных отношений, а потому и нового общественного политического порядка. В этом смысле и была, – в отличие от казацкой, – революционна их освободительная борьба с государством. Об᾽яснение этого «европейского недочета» в нашей истории опять находится в том, что история России была историей страны, колонизовавшейся при условиях натурального хозяйства. В передовых странах Запада недовольные элементы, уходившие из деревень, скоплялись в городах, так как больше им податься было некуда. В городах возникали новые экономические отношения, из них, как из центра, распространялось в стране денежное хозяйство. Наши недовольные элементы бежали в степь, где хозяйственная жизнь по необходимости являлась еще гораздо более отсталой, нежели в центральных местностях Московского государства. Таким образом, на Западе эти элементы были незаменимыми элементами прогресса, а у нас казачество явилось чем-то в роде клапана, предохранявшего
старый порядок от взрыва. Протест казаков был исторически бесплоден, и в конце-концов они превратились в орудие угнетения той самой народной массы, из которой они когда-то вышли и которая величала их «добрыми молодцами», любуясь их удалыми подвигами, как выражением своего собственного протеста... Проф. С.Ф.Платонов нашел интересную отметку о донских казаках от 22 декабря 1613 г., т.-е. от того времени, когда, несмотря на избрание Михаила Федоровича, Смута далеко еще не была окончена. Отметка гласит, что «они-де во всем царскому величеству послушны и на всяких государевых недругов стоять готовы»[181]. Конечно, отметка слишком сгущала краски. Донские удальцы еще не один pas сами превращались потом в «государевых недругов». Но, как сказано, их общественный протест вышел исторически бесплодным. А их служба государству в конце-концов сделала их одним из удобнейших орудий борьбы реакции с истинно-освободительным движением народа. Так что в последнем счете история вполне оправдала отметку. Западная Европа не имела ничего подобного казачеству. Даже австрийская Военная Граница была совсем непохожа на него по своему происхождению и по своему общественному значению. Потому-то западному европейцу до сих пор так трудно составить себе сколько-нибудь правильное представление о казаках. Но в других частях света существовало свое казачество. Подобно беглым неграм Суринама, некогда столь опасным для голландцев, беглые рабы Занзибара образовали что-то в роде Либерии между горою Иомбо и Шимбалийскою частью береговой горной цепи. Они нападают на караваны, идущие прямым путем из Момбаса в Узумбару, и успешно сопротивляются нападениям Муазаньомбе, – так называется одно из подразделений племени Вуадиго, – султан которых смотрит на них как на своих подданных. Судя по рассказам арабов, есть еще маленькая республика того же происхождения в окрестностях Гулуана... путешественники с ужасом говорят о насилиях и жестокости населяющих ее беглецов»[182]. Африканские и южно-американские (суринамские) беглецы, это – черные казаки, протестовавшие против белых рабовладельцев и черных «самовластцев». Но их протест был так же непроизводителен в смысле прогресса общественных отношений, как и протест белых казаков русского происхождения.
Глава XXI Поворот к Западу. – Петровская реформа, ее ближайшие социально-политические причины и ее ближайшие социально-политические следствия
Закрепощение государством всех слоев русского населения было, как мы видели, результатом «инертности народного хозяйства», в свою очередь вызванной причинами, возвращаться к которым здесь было бы совершенно излишне. Раз возникнув, закрепощение это само стало причиной, замедлявшей экономическое развитие России. Однако, оно не остановило, да и не могло остановить его. Денежное
хозяйство развивалось в стране медленно, но неуклонно. Прежде натуральный характер русского народного хозяйства вел к тому, что даже посадские люди, промышлявшие «торжишком», уплачивали хлебом некоторые, причитавшиеся с них, сборы. Во второй половине XVII в. развитие «торжишка» привело к тому, что такой способ уплаты становился для них затруднительным. В 1673 г. приказано было взимать с посадских людей деньги взамен так-называемого стрелецкого хлеба[183]. Эти успехи денежного хозяйства создавали экономическую основу для будущей реформы Петра, программа которой, по превосходнейшему замечанию Ключевского, «была вся готова еще до начала деятельности преобразователя», а в некоторых отношениях шла «даже дальше того, что он сделал»[184]. Так, уже в XVII в. московское правительство начало преобразовывать свою армию, все более и более дополняя старую дворянскую конницу полками «иноземного строя». Но по мере того, как возрастало число таких полков, – а оно и тогда уже возрастало довольно быстро, – росли денежные расходы правительства на армию. При Петре дело дошло до того, что прекратилась раздача поместий, так как основным вознаграждением за службу стало при нем денежное жалованье, а не поместное. «При Петре и в последующие царствования служащие нередко получали земли, населенные имения, но уже не для обеспечения службы, как прежде раздавались поместья, а в виде особой награды за службу и не в условное владение, а в собственность на том же основании, как ранее раздавались выслуженные, жалованные вотчины»[185]. Вопреки тому, что говорили о нем славянофилы, Петр своей преобразовательной деятельностью вовсе не шел против общего течения русской исторической жизни. Но его царствование было одной из тех, совершенно неизбежных в процессе социального развития, эпох, когда постепенно накопляющиеся количественные изменения превращаются в качественные. Такое превращение всегда совершается посредством скачков, которые при недостатке осведомленности или вдумчивости кажутся внезапными, т.-е. совершенно лишенными надлежащей органической подготовки. Подобным оптическим обманом и об᾽ясняется обильно сыплющиеся на главных деятелей таких эпох упреки в невнимании к предшествовавшему ходу общественного развития. «Первоочередное преобразовательное дело Петра» (выражение проф. Ключевского), – реформа армии, – издавна подготовлялась умножением полков «иноземного строя». Однако, и это дело совершилось при Петре посредством скачка, потому что постепенные изменения в организации военной силы привели к тому, что количество могло и должно было перейти в качество. Своей реформой армии Петр сделал то самое дело, которое очень задолго до него выполнили в своей стране французские короли. И совершенно так же, как во Франции, реформа армии внесла у нас новый смысл в отношение высшего класса к земле. Прежде смысл заключался в том, что землевладение давало высшему классу возможность нести военную службу. Теперь,
когда класс этот стал получать за свою службу денежное, а не земельное «жалованье», он должен был или перестать владеть землею или владеть ею уже на каком-то новом основании. Перестать владеть ею было очень невыгодно для него, и он избежал такого невыгодного оборота дела, воспользовавшись своим положением высшего класса, с интересами которого не могло не считаться даже деспотическое правительство. К тому же экономическое разорение этого класса, из которого продолжали вербоваться главные служилые элементы, было не в интересах государства. Поэтому Петровская реформа и тут совершила лишь то, что было подготовлено предшествовавшим ходом русского общественного развития. Уже в XVII веке поместья постепенно сливались с вотчинами. Законом 1714 г. о единонаследии Петр довершил это слияние, сравняв поместья с вотчинами под общим именем недвижимых имуществ. Закон о единонаследии не понравился русскому дворянству, и оно добилось его отмены при Анне Ивановне. Но тот же самый указ, который отменял его, предписывал «впредь как поместья, так и вотчины именовать одно недвижимое имение, вотчина». От этого приобретения ни за что не захотело бы отказаться русское дворянство. Характерно, что оно подтверждено было именно той императрицей, которой дворянство помогло удержать в своих руках самодержавную власть вопреки замыслам «верховников». И та же императрица, указом 31 декабря 1736 г., ограничила срок обязательной службы дворян 25-ю годами, предоставив, кроме того, отцам право удерживать одного из своих сыновей дома для хозяйства. Этим положено было начало раскрепощению русского служилого класса, который именовался тогда шляхетством. Указ 1736 г. так обрадовал дворян, что те из них, которые выслужили срок, стали во множестве выходить в отставку, вследствие чего правительство вынуждено было дать указу ограничительное толкование. Но этим процесс раскрепощения был только приостановлен, да и то не надолго. Ограничительное толкование было отменено Елисаветой, а Петр III манифестом 18 февраля 1762 г. дал «всему российскому благородному дворянству вольность и свободу». Вольность и свобода были 23 года спустя подтверждены Екатериной II: ее жалованная грамота дала дворянам права внутреннего сословного самоуправления и позволила им делать через своих депутатов представления Сенату и верховной власти. Все это дополнялось весьма приятными для дворянства постановлениями: «телесное наказание да коснется благородного» и «да не судится благородный окроме своими равными». Дворянство недаром любило матушку Екатерину: матушка привела процесс дворянского раскрепощения к благополучному концу. О настоящих политических правах дворянство не мечтало да, как увидим, и не могло мечтать. Общественно-политический быт русского государства представлял собою как-бы двух᾽ярусное здание, в котором закрепощение обитателей нижнего яруса оправдывалось закрепощением обитателей верхнего: крестьянин и посадский человек были закрепощены для того, чтобы дать дворянину экономическую возможность нести свою крепостную службу государству. Но класс, в руках которого сосредоточивается выполнение важнейших общественных функций, не преминет воспользоваться этим, во-первых, для того, чтобы увеличить свою власть над нисшим
классом, а во-вторых, для того, чтобы облегчить себе исполнение своих общественных обязанностей. Так и поступило русское дворянство. Оно постепенно увеличило свою власть над крестьянством и постепенно раскрепостило самого себя. Ему тем легче было сделать то и другое, что военная сила государства была в его руках. Реформируя свою армию, Петр для заполнения офицерских мест, рассчитывал преимущественно на дворянство. Но он хотел, чтобы производимые в офицеры дворяне знали «с фундамента солдатское дело». Указы 1714 и 1719 гг. требовали, «чтобы из дворянских пород и иных со стороны отнюдь в офицеры не писать, которые не служили солдатами в гвардии»[186]. Благодаря этому, наши первые гвардейские полки были наполнены рядовыми из дворян, исполнявшими все обязанности нижних чинов. Но по той же причине петербургские «самовластцы» оказались в полной зависимости от одетых в солдатские мундиры дворян. Бирон был по-своему вполне прав, не любя дворянской гвардии и величая гвардейских дворян янычарами: «Почти все правительства, сменявшиеся со смерти Петра I до воцарения Екатерины II, были делом гвардии; с ее участием в 37 лет при дворе произошло пять–шесть переворотов. Петербургская гвардейская казарма явилась соперницей Сената и Верховного Тайного Совета, преемницей московского Земского Собора»[187]. Можно сказать даже больше: в течение некоторого времени петербургское самодержавие было de facto ограничено саблей гвардейского офицера и штыком гвардейского солдата. Но ограничение не могло быть прочным. Достаточно было передать гвардейский штык в крестьянские руки, чтобы и на деле восстановить самодержавие во всей его полноте. Классовые отношения в тогдашней России были таковы, что она решительно не могла сделаться дворянски-республиканской страной, какою была Польша, а должна была оставаться страной абсолютной монархии. Современник Петра, Иван Посошков, сам происходивший из крестьянского звания, выразил общее крестьянское убеждение, сказав в своей «Книге о скудости и о богатстве»: «крестьянам помещики невековые владельцы; того ради они не весьма их и берегут, а прямый их Владетель Всероссийский Самодержец, а они владеют временно». Посошков советовал царским указом предписать, «чтобы крестьяне крестьянами были прямыми, а не нищими; понеже крестьянское богатство – богатство царственное»[188]. Так думало крестьянство еще при Петре, т.-е. тогда, когда обязательная служба дворян еще не была отменена. В этой службе они видели единственное оправдание своего временного закрепощения помещикам. Когда дворяне были раскрепощены, крестьяне решили, что теперь очередь за ними, так как теперь их временно-подневольный труд лишился всякого смысла. Либеральная Екатерина вынуждена была разуверять их в этом. Тотчас же по своем вступлении на престол она об᾽явила, что намерена «помещиков при их имениях
и владениях ненарушимо сохранять и крестьян в должном им повиновении содержать». Но это не разубедило крестьян, они не переставали ждать воли, и почти каждый новый государь должен был повторять, что уничтожение крепостного права не входит в программу его царствования. Крестьяне заносили эти повторения в счет помещиков. Они хорошо понимали, что помещики всеми мерами противятся и должны противиться их освобождению. Чем больше они стремились к нему, тем больше ненавидели помещиков. А их ненависть к помещикам упрочивала петербургское самодержавие. Всякая попытка дворянства явно и формально ограничить самодержавную власть быстро и жестоко разбилась бы об единодушное сопротивление кисшего класса. Совершенно неразвитое в политическом смысле крестьянство, в среде которого постоянно вспыхивали то здесь, то там «бунты» против помещиков, неизменно приурочивало к предполагаемой им доброй воле русских государей все свои упования на лучшее будущее: известно, что Пугачев счел нужным выдать себя за Петра III. Осуществление этих упований представлялось крестьянству тем более вероятным, чем полнее была монархическая власть. Естественно было поэтому, что оно смотрело, как на самых злых недругов народа, на всех тех, в которых оно подозревало намерение восстать против царя. Это его настроение не раз дало почувствовать себя в XIX в. при разного рода оппозиционных и революционных выступлениях разночинцев. Мы увидим, что оно имело решительное влияние на судьбу некоторых революционных программ и некоторых тактических приемов революционной борьбы. Одной из главных причин смены народничества «народовольством» послужило недоверчивое отношение народа к тем, пытавшимся сблизиться с ним революционным разночинцам, которые не разделяли его главного политического верования.
Глава XXII Взаимная борьба сословий в послe-петровской России. – Политическое значение крестьянского аполитизма
Помещики хорошо понимали, что крестьянский аполитизм имел свой политический смысл. Они не могли не чувствовать, что в борьбе с ними у самодержавия был бы в лице крестьян страшный для них союзник. Уже по одному этому они не могли быть расположенными добиваться формального ограничения центральной власти. С другой стороны, союз с самодержавием был нужен им самим для того, чтобы держать в узде свою, всегда недовольную и, казалось, всегда готовую перейти в наступление, «крещеную собственность». Это делало их еще менее расположенными выдвигать какие-нибудь определенные политические требования. После того, как гвардейский штык из рук дворянина перешел в руки крестьянина, благородное сословие могло противопоставить воле самодержавных монархов только одну силу: силу пассивного сопротивления да разве еще чисто офицерские заговоры, в роде того, который закончился катастрофой 11-го марта 1801 г. Сила пассивного дворянского сопротивления была при случае очень велика и имела в истории нашего внутреннего развития несравненно большее значение, чем обыкновенно думают. С нею приходилось считаться даже такому настойчивому, убежденному и ревнивому представителю самодержавной власти, каким был
Николай[189]. Но сила пассивного сопротивления была вполне консервативной силой, а события, в роде катастрофы 11 марта 1801 г., могли быть очень опасны для отдельных представителей власти, но для политической системы в ее целом они были еще менее опасны, чем «лейб-кампанские» подвиги XVIII в. Таким образом, наш монархический строй был прочен совсем не отсутствием у нас борьбы классов, – как это утверждали Погодин и славянофилы, собственно так-называемые, – а именно ее наличностью. Но одной из замечательных особенностей русского исторического процесса явился тот факт, что наша борьба классов, чаще всего остававшаяся в скрытом состоянии, в течение очень долгого времени не только не колебала существовавшаго у нас политического порядка, а, напротив, чрезвычайно упрочивала его. Далее. Поместное землевладение в течение долгого времени было экономически необходимым условием исправного отбывания службы дворянами. Это ясно сознавали как сами «всепокорнейшие рабы» русских государей, так и их собственные рабы – крестьяне. Но с развитием денежного хозяйства дело существенно изменилось. Армия была преобразована, и раздача земель уступила место денежному жалованью. Это тоже не ускользнуло от внимания народа. Дворянское землевладение лишилось смысла в его глазах. Если крепостные крестьяне были убеждены, что за отменой обязательной службы помещиков должно последовать их собственное освобождение, то они представляли его себе не иначе, как в виде освобождения с землею. В тех местностях, где не чувствовалось земельной «тесноты», крестьяне, наверно, ничего не имели против того, чтобы известная часть земли осталась за помещиками. Но зато там, где такая «теснота» уже ощущалась, они нисколько не сомневались, что следует произвести «черный передел», т.-е. отобрать все помещичьи земли в казну и распределить их поровну между земледельцами. Дворянское землевладение не имело теперь в их глазах никакого оправдания, а, кроме того, с ними самими так мало церемонились, когда заходила речь об удовлетворении той или другой государственной потребности, что они решительно не понимали, почему правительство церемонится с помещиками. Чем более росла крестьянская нужда в земле, тем нетерпеливое становилось крестьянское ожидание «черного передела» или «слушного часа». Не дождавшись от высшей власти призыва к переделу, они сами взялись за него. Так начались аграрные волнения 1902–1905 гг. Волнения эти обыкновенно приписывались влиянию революционной пропаганды. Но ее влияние на крестьян никогда не было велико, и потому она далеко не об᾽ясняет всех случаев аграрных волнений. Дело тут было не в революционной пропаганде, а в той психологии крестьянина, которая в продолжение целых
веков создавалась аграрной политикой российского государства. Когда крестьянин требовал отобрания земли у помещиков и даже когда он сам принимался отбирать ее, он вел себя не как революционер, а, напротив, как самый убежденный охранитель: он охранял ту аграрную основу, на которой так долго держался весь общественно-политический строй России. Противившиеся «черному переделу» помещики восставали против этой основы и потому являлись в глазах крестьян самыми опасными бунтовщиками. Естественным следствием этого было то, что, выдвигая такое радикальное экономическое требование, как требование земельного передела, наши земледельцы в то же самое время оставались совершенно чуждыми всякого политического радикализма. Даже там, где, утратив свои старые политические верования, крестьяне не выступали защитниками неограниченной монархической власти, они все-таки были равнодушны к политике. Их поле зрения ограничивалось вопросом о земельном переделе. Потому и выходило так, что в крупных центрах рабочих и «интеллигенции» расстреливали одетые в солдатские мундиры дети тех самых «государевых сирот», которые в деревнях разоряли «дворянские гнезда» и делили между собою помещичью землю. Правда, бывало нередко так, что на митингах, созывавшихся в больших селах, крестьяне одобряли резолюции, требовавшие между прочим созыва учредительного собрания. Но для огромного большинства участников таких митингов со словами «учредительное собрание» не связывалось никакого определенного политического представления. Резолюции, написанные людьми совсем другого образа мыслей, одобрялись собиравшимися на митинге крестьянами не потому, что они содержали в себе требование учредительного собрания, а потому, что, кроме этого, непонятного и неинтересного для них требования, в резолюциях заключалось вполне понятное для земледельца и чрезвычайно важное в его глазах требование земельного передела. В Смутное время православные обитатели Казани, собираясь отстаивать Московское государство и «дом Пресвятой Богородицы» против «казаков и литовских людей», вошли на этот предмет в соглашение «с горными и луговыми татарами и Луговою Черемисою». Татарам, а также, я думаю, и «Луговой Черемисе», которая, наверно, не очень дорожила христианством, было, конечно, решительно все равно, как обернется дело с «домом Пресвятой Богородицы». Но и татары и «Луговая Черемиса», как видно, страдали от господствовавшего в Смутное время беспорядка и потому готовы были итти с теми, которые, собираясь восстановить порядок, вспоминали между прочим и о названном «доме». В грамотах, на которые сочувственно откликались татары и черемисы, их трогало не то, что говорилось о «доме Пресвятой Богородицы», а именно и только то, что указывало на необходимость восстановления порядка. Точно также и в резолюциях, принимавшихся на митингах, крестьян в большинстве случаев трогали вовсе не те строки, которые требовали созыва учредительного собрания, а именно и только те, в которых говорилось о «землице». Крестьяне жадно ловили все слухи о деятельности первой и второй Государственной Думы. Но и эти слухи интересовали их лишь применительно к той же «землице». Совершенно недоступной осталась для них политическая сторона вопроса о народном представительстве. Они не понимали его природы:
вместо того, чтобы видеть в себе источник силы Государственной Думы, они смотрели на Думу как на такое учреждение, которое даст народу силу, нужную ему для борьбы с противниками «земельного равнения». Поэтому им и в голову не приходило, что народ может и должен отстаивать своих представителей в борьбе с реакцией. В этой психологии русского крестьянства, сложившейся на основе нашего старого общественно-политического быта, так сильно напоминающего собою быт восточных деспотий, заключается разгадка той загадки, которую недавно один из органов нашей, периодической печати назвал «мировой загадкой движения, начавшегося таким высоким под᾽емом и окончившегося столь неудачно»[190], т.-е., проще говоря, того, что революционный взрыв 1905–6 гг. оказался гораздо менее значительным, чем это показалось сначала и нашим революционерам, и нашим охранителям. Указанный взрыв явился результатом сочетания двух сил, совершенно различных по своей природе. Одна из них создана была начавшимся еще в конце XVII в. процессом европеизации России; другую породил наш старый восточный быт. Одна была революционна по своему существу даже тогда, когда она избегала всяких насильственных действий; другая сохраняла свой консервативный характер даже тогда, когда проявляла себя самыми резкими насилиями. В течение некоторого времени действие первой силы подкреплялось действием второй, что и придало взрыву 1905–6 гг. очень значительный вид. Но скоро вторая сила оказалась неспособной к дальнейшей поддержке первой силы, и тогда стало выясняться, что взрыв вовсе не так значителен на самом деле, как это подумали сначала. Перестав поддерживать силу революционную, консервативная сила тем самым чрезвычайно укрепила позиции защитников старого порядка и содействовала его восстановлению. Вот почему «движение, начавшееся таким высоким под᾽емом», окончилось, – если окончилось, – «столь неудачно». Взрыв 1905–6 гг. был следствием европеизации России. А его «неудача» была причинена тем, что процесс европеизации переработал пока еще далеко не всю Россию. Последствия «неудачи» будут ослабляться сообразно дальнейшему ходу названного процесса. А пока что приходится опять вспоминать, что история России есть история колонизующейся страны. Потеряв надежду на «черный передел» в России, крестьянство огромной массой устремилось в наши азиатские владения. Правительство, которое очень долго старалось затруднять переселения, так как боялось, что они лишат помещиков дешевой рабочей силы, на этот раз широко открыло предохранительный клапан колонизации. Оно рассчитывало, что колонизация удалит из Европейской России беспокойные элементы крестьянства. Будущее покажет, был ли этот расчет правилен, а если да, то в какой мере. Теперь же для всех очевидно одно: в последние годы приток переселенцев в Азиатскую Россию быстро уменьшается. Так, «Осведомительное Бюро» сообщало, что в 1909 г. в наши азиатские владения прошло ходоков и переселенцев 707.400 душ, в 1910 – 353.000 д., а в 1911 г. – 226.000 д. Таким образом, действие предохранительного
клапана значительно и быстро сокращается. С другой стороны, рост населения в Азиатской России увеличивает емкость внутреннего рынка империи и тем способствует росту ее промышленного развития, т.-е. ускоряет процесс европеизации ее передовых местностей, вследствие чего уменьшаются шансы новой победы реакции.
Глава XXIII Европеизация России. – Узкие пределы европеизации под непосредственным влиянием Петровской реформы
Мы знаем, что сближение общественно-политического строя северо-восточной Руси со строем восточных деспотий об᾽ясняется в последнем счете обстоятельствами, замедлившими рост ее производительных сил и тем самым причинившими «инертность» ее хозяйства. Но эта страна, так похожая по своему быту на азиатские страны, должна была отстаивать свое существование не только от нападения со стороны азиатов. На западе она граничила с Европой, и уже с XVI в. каждое враждебное столкновение с европейскими странами давало ей болезненно почувствовать превосходство европейской цивилизации. Волей-неволей надо было подумать о том, чтобы кое-чему поучиться у Европы. При этом, как мы уже видели, начато было с того, в чем чувствовалась наиболее острая нужда: с усвоения западно-европейского военного искусства. К концу XVII в. полки иноземного строя значительно превосходили своею численностью поместную дворянскую конницу. Правда, первоначально войско иноземного строя было немногим лучше дворянских ополчений. Но и тогда уже становилось ясно, что для преобразования армии нужно много денег, а для того, чтобы иметь деньги, нужно заимствовать у тех же западных еретиков, у «латинцев» и у «люторы», их уменье пользоваться природными богатствами своей страны. Уже при Алексее Михайловиче принимается ряд мер для умножения производительных сил страны. Но меры эти были слишком недостаточны для того, чтобы иметь сколько-нибудь серьезное влияние на развитие народного хозяйства. Что же касается понятой и привычек населения, то при Алексее Михайловиче европеизация распространилась только на горсть отдельных лиц, да и к ним почти целиком применимо то замечание, которое В. О. Ключевский делает о Ртищеве и Ордине-Нащокине: «западные образцы и научные знания они направляли не против отечественной старины, а на охрану ее жизненных основ от нее самой, от узкого и черствого ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководительством, от рутины, которая их мертвила»[191]. Интересно, что воспитанный иностранными учителями сын Ордина-Нащокина, Воин, не ужился в тогдашней Москве, где стошнило ему окончательно, и бежал за границу, сначала к польскому королю, а потом во Францию[192]. И хотя при Федоре Алексеевиче и царевне Софье уже стали при царском дворе заводить «политеесъ съ манеру польскаго», но
действительная европеизация России начинается только с Петра. Вот почему вопрос о значении петровской реформы и сделался у нас коренным вопросом публицистики. Он был равнозначителен вопросу о том, в каком направлении должна развиваться Россия: в сторону Запада или же в сторону Востока. Петру приписывают слова: «нам нужна Европа на несколько десятков лет, а потом мы к ней должны повернуться задом». Трудно решить, в самом ли деле он произнес их. Вернее, что – нет. И все-таки они имеют глубокий исторический смысл. Как ни сильно увлекала Петра западно-европейская цивилизация, в своей преобразовательной деятельности он был и мог быть западником только отчасти. Этим и об᾽ясняется тот разрыв между верхним, более или менее глубоко европеизованным классом, с одной стороны, и народом – с другой, который был результатом петровской реформы и который так горько оплакивали впоследствии славянофилы. Если главной отличительной чертой, сближавшей русский быт с бытом восточных деспотий, являлось полное закрепощение всех классов народа государству, то совершенно неоспоримо, что реформа Петра не могла да и не имела в виду европеизовать крестьянство. Напротив. Петербургский период довел, как мы уже видели, закрепощение крестьянина государству и землевладельцам до его крайних логических выводов. В длинный промежуток времени от Петра до генерала Киселева положение русского крестьянина все более и более приближалось к положению нисшего, порабощенного класса восточных деспотий. Подневольный крестьянский труд на пользу помещиков и государства делался все более и более тяжелым. Уже при Петре положение крестьянина ухудшилось весьма значительно. Сравнивая общие цифры податного населения России по переписям 1678 и 1710 гг., г. П. Милюков показал, что за этот период времени население это не возросло, как этого следовало бы ожидать, а уменьшилось на одну пятую часть. «Но необходимо помнить, – прибавляет названный историк, – что этот результат есть уже, так сказать, равнодействующая действительной убыли и того естественного прироста, который должен был несколько прикрыть и замаскировать ее»[193]. Такою страшною ценою заплатило податное население России за петровскую реформу! Г. Милюков не без наивности замечает, что, «за исключением мер, принятых в последние годы под влиянием идей меркантилизма в пользу городского класса, Петр не был социальным реформатором»[194]. С этим очень легко согласиться: какая уж там социальная реформа! Социальная реформа имеет в виду облегчить положение нисшего класса, а Петру было совсем не до того. Его экономическая политика по отношению к трудящимся осталась верной заветам Московского государства, ни о какой «социальной реформе» никогда не помышлявшего. Но если Москва била податное население бичами, то Петербург, в лице
Петра, стад бить его скорпионами. Неудивительно, что уже в 1700 г. в народе стала распространяться легенда о том, что наступили последние времена и что в лице Петра воцарился антихрист. Короче, с этой стороны ни о какой европеизации говорить невозможно. Надо еще прибавить, что ко времени Петровской реформы в передовых странах европейского Запада быстро исчезали последние остатки крепостного права. Таким образом, мы имеем здесь перед собою как бы два процесса, параллельных один другому, но направленных в обратные стороны: закрепощение крестьян доходит у нас до апогея в тот самый период времени, когда оно исчезает на Западе. Этим еще более увеличивается разница положения русского крестьянина с положением западного. Не то увидим мы, обратившись к дворянству. Если сам Петр ничего не предпринял для его освобождения от обязательной службы, то совершенное им преобразование армии дало дворянству возможность добиться сравнения поместий с вотчинами и тем положить экономическую основу своей «вольности». В последующие царствования дворянство, отчасти благодаря тому же преобразованию армии, приобрело «вольность» в той ее полноте, какая была нужна для него при данных условиях. По мере того, как оно приближалось к «вольности», его роль в государстве переставала быть похожей на роль служилого класса в восточных деспотиях и более или менее уподоблялась роли высшего сословия в абсолютных монархиях Запада. Следовательно, социальное положение «благородного» сословия изменилось в одну сторону, – в сторону Запада, – в то самое время, когда социальное положение «подлых людей» продолжало изменяться в сторону противоположную, – в сторону Востока. Перед нами здесь опять два параллельных процесса, и опять эти два процесса идут в прямо противоположные стороны. Вот туда-то и лежит наиболее глубокая общественная причина упомянутого выше разрыва между народом и более или менее просвещенным обществом. Собственно говоря, подобный разрыв существовал и в западных странах,–например, в той же Франции. Можно было бы привести некоторые примеры из жизни энциклопедистов, наглядно показывающие, как трудно было французскому просветителю XVIII в. столковаться с французским же крестьянином, если только в глазах этого последнего он являлся барином. Такая трудность взаимного понимания есть неизбежный плод классового или сословного антагонизма. Но нигде она не достигла таких больших размеров, как в России. Сблизив с Западом высшее сословие и отдалив от него нисшее, Петровская реформа тем самым увеличила недоверие этого последнего ко всему, тому, что шло к нам из Европы. Недоверие к иностранцу помножалось на недоверие к эксплуататору. Даже тогда, когда осуществление в России данной западно-европейской идеи пошло бы прежде всего на пользу угнетенных сословий, – когда сама эта идея являлась на Западе продуктом освободительной борьбы угнетенных с угнетателями, – русский крестьянин склонен был видеть в ней барский «подвох», если только ее проповедывал человек, одетый в немецкое платье. От этого много страдали передовые люди
России. Это была большая беда, но это была еще не самая большая. Самая большая беда была другая. Когда европеизованные представители русской общественной мысли стали задумываться не только о тяжелом положении нисшего класса народа, но также об его прошлой исторической судьбе и о шансах его будущего развития, тогда они, весьма естественно, стали судить об этих важнейших предметах с точки зрения своих, заимствованных у Запада, общественных теорий. Но западные теории возникли на почве западно-европейских общественных отношений. Положение же русского крестьянина, равно как и его историческое прошлое, напоминало собою несравненно более Восток, чем Запад. Поэтому и то, и другое, – и положение, и историческое прошлое, – чрезвычайно трудно поддавалось анализу с точки зрения западных общественных теорий. С точки зрения этих теорий и то, и другое представлялось полным самых неожиданных противоречий. Вот пример. Герцена поражал тот «страшно нелепый факт, что лишение прав большей части населения шло (в России. Г.П.), увеличиваясь от Бориса Годунова до нашего времени». Подобный факт был бы, пожалуй, в самом деле «нелеп» в истории Италии, Франции, Англии и большинства германских стран. Но, принимая во внимание историю экономического развития Северо-восточной России в данной исторической обстановке, факт этот у нас представляется вполне естественным и даже неизбежным. Еще труднее было, держась западных общественных теорий, составить себе сколько-нибудь вероятную схему будущего развития России в сторону идеалов передового человечества. Этой трудностью вызван был между прочим тот благородный крик отчаяния, который называется первым «философским письмом» П. Я. Чаадаева. Ею же об᾽ясняется появление у нас теорий «самобытного» русского прогресса – от славянофильства до народничества и суб᾽ективизма включительно. Наконец, она же вела к тому, что в течение целых десятилетий отворачиваться от «самобытности» можно было только при одном условии: обоими ногами держась на почве исторического идеализма. Несходство нашего общественного «бытия» (особенно в том, что касалось положения и исторической судьбы нисшего класса народа) с общественным бытием Запада могло не смущать наших передовых идеологов только в одном случае: если они разделяли то убеждение, что не бытие определяет собою сознание, а сознание определяет бытие. Тому, кто, подобно французским просветителям XVIII в., думал, что la raison finit toujours par avoir raison (разум, в конце-концов всегда оказывается правым), достаточно было убедиться в разумности того или другого передового учения Запада, чтобы твердо поверить в его будущее торжество. А кто сказал бы себе, что «разумность» разума изменяется в зависимости от общественных условий и что торжество данного вида его «разумности», – данного передового учения, – всегда предполагает определенное сочетание этих условий, в виду нашей тогдашней русской действительности, вынужден был бы признать, что даже и вполне уместные у себя на родине передовые учения Запада «нелепы» в России. Мы увидим, что к этому выводу пришел Белинский в эпоху своего знаменитого «примирения с действительностью». Однако,
этот вывод был невыносим для передовых русских людей. И мы увидим также, что сам, бесстрашный перед истиной, Белинский мог ужиться с ним только на самое короткое время. Но и Белинскому, чтобы отказаться от него, нужно было перейти на точку зрения суб᾽ективного исторического идеализма. Суб᾽ективный исторический идеализм благоприятствует развитию социального утопизма. И мы убедимся, что самые передовые и даровитые представители русской общественной мысли в течение целых десятилетий, несмотря на все свои усилия, не могли, в своих социальных программах, выбиться из области утопии. Разрыв народа с передовой интеллигенцией страшно затруднял его собственную борьбу за свое освобождение и осуждал людей, стремившихся помочь ему, на жалкую роль «умных ненужностей». Славянофилы говорили, что европеизованное русское «общество» представляло собою как бы европейскую колонию, живущую среди варваров. Это было вполне верно. Но изменить к лучшему тяжелое положение иностранной колонии, заброшенной в среду русских варваров, могло только одно общественное явление: европеизация варваров. Другого средства быть не могло по той простой причине, что, вопреки мнению славянофилов, в общественной жизни Московской Руси не было, – да и не откуда было взять, – таких «начал», которые давали бы ей возможность создать самобытную культуру, способную померяться с культурой европейского Запада. «Начала» общественной жизни Москвы сводились, в последнем счете, к закрепощению всех классов населения государству, а закрепощение совсем неблагоприятно для роста культуры. Правда, некоторые деспотии Востока, – древний Египет или древняя Халдея, – тоже закрепощавшие государству все народные силы, были более цивилизованы, нежели Московская Русь XVII столетия[195]. Нет основания думать, что к концу XVII в. Московская Русь дошла до последнего предела той цивилизации, которая являлась более или менее самобытным плодом ее собственных «начал». Позволительно предположить, что она в конце-концов почти сравнялась бы с древним Египтом или с древней Халдеей[196]. Но закрепощение населения, явившееся в результате медленного развития производительных сил, с своей стороны, задерживает это развитие, чем задерживается и развитие цивилизации. Западная Европа, никогда не знавшая закрепощения в той его полноте, какую мы наблюдаем в государствах Востока и в Московской Руси, выработала у себя несравненно более значительные производительные силы и гораздо более могучую цивилизацию. В сравнении с этой последней, самобытная цивилизация восточных стран оказалась бы слишком слабой. В конце XVII, в XVIII и в XIX столетиях, – не до Р. X., а после него, – необходимо
было усвоить культуру европейского Запада или пойти назад, склониться к упадку и разложению. К счастью для России, процесс усвоения ею цивилизации Западной Европы не мог ограничиться европеизацией ее служилого сословия.
Глава XXIV Расширение этих пределов вследствие толчка, данного реформой экономическому развитию России
Петр не только упрочил закрепощение крестьянства. Даже его многочисленные и разнообразные технические заимствования у Запада вели не столько к европеизации наших общественных отношений, сколько к еще более последовательному переустройству их в старомосковском духе. Желая дать толчок развитию производительных сил своей страны, он обратился к тому средству, которое так широко применялось в Московской Руси: к подневольному труду и обязательной службе разных подходящих для данных целей классов населения. Московское государство имело своих служилых ремесленников, т.-е. посадских людей, обязанных заниматься тем или другим ремеслом для удовлетворения государственных потребностей. Со времени Петра у нас появились служилые фабриканты и заводчики[197]. В передовых странах Запада распространение фабрично-заводского производства означало распространение системы наемного труда. В России Петр, основывая фабрики и заводы, приписывал к ним окрестных крестьян, чем создавался новый вид крепостного состояния. Эта относительная особенность нашего исторического процесса, – тот факт, что новые, заимствованные у Запада, производства окружены были на нашей почве азиатской обстановкой, вызвана была нашей экономической отсталостью и в свою очередь замедляла дальнейшее экономическое развитие России. Но, кроме того, она затрудняла и европеизацию той части населения, которая занималась новыми производствами. Я уже не говорю о приписанных к фабрикам крестьянах, но и купечество, все-таки бывшее до известной степени привилегированным сословием, в своем образе жизни и в своих понятиях долго и упорно держалось старины. Купцы не доверяли шедшим с Запада новшествам, так как не любили Запада, чувствуя себя слабыми сравнительно со своими западноевропейскими конкурентами, превосходившими их не только по своему богатству, но, – что весьма важно, – и по своему правовому положению. Посошков, вообще говоря, очень одобрявший Петровскую реформу, всегда очень недоброжелательно отзывается об иностранцах. Иногда представишь себе подобного ему «торгового мужика», но рукам и по ногам связанного нашей приказной «волокитой», ведущим дела или соперничающим с иностранными торговцами, то понимаешь, что он не
мог не сознавать своей слабости и что сознание этой слабости не могло не вызывать в нем раздражения против заморских гостей. Наибольший запас такого раздражения должен был накопиться у нисшего слоя городской буржуазии, у совершенно бесправных «посадских людей», – например, у ремесленников, которых европеизация служилого класса лишала заказчиков, предпочитавших обращаться по возможности к иностранным мастерам. Если богатое купечество долго сохраняло привычки, нашедшие свое бессмертное выражение в комедиях Островского, то нисшие слои городской буржуазии представляли собою благоприятную почву для развития понятий, в последнее время получивших у нас весьма неудачное название «черносотенных». Нерасположение торгово-ремесленного сословия к западным новшествам усиливалось еще и тем, что более или менее европеизованное российское благородное шляхетство пользовалось своим господствующим положением в государстве, конечно, не к выгоде «бородачей». Вполне естественный антагонизм между купечеством и дворянством создал, стало быть, еще одно препятствие для европеизации России. До половины XIX в. новая русская культура имела весьма явственный дворянский отпечаток. Но при всем том процесс европеизации не остановился. Мало-помалу он вышел и непременно должен был выйти за тесные пределы высшего сословия. Новые, заимствованные у Запада, производства развивались, благодаря своей азиатской обстановке, очень медленно, но все-таки развивались. А чем больше развивались они, том более становилось очевидным, что азиатская обстановка должна быть устранена. Как ни трудно было сделать это в такой стране, господствующее сословие которой воспитывалось в преданиях крепостного права, но двигательная сила экономического развития в конце-концов преодолела инерцию крепостнических интересов и преданий, сказал, что дворяне в 40-х гг. XIX века оказали победоносное пассивное сопротивление попытке Николая I кое в чем ограничить крепостное право. Но в то же самое время между дворянами появляются такие сельские хозяева, которые, вполне чуждаясь освободительных «утопий», житейским опытом и простым арифметическим рассчетом убеждались в невыгодности крепостного труда. В 1845 г. министр Перовский говорил в записке, поданной им Николаю, что «образованные помещики» теперь уже «вовсе не боятся утраты своего достояния от дарования людям свободы». По словам министра, «помещики сами начинают понимать, что крестьяне тяготят их, и что было бы желательно изменить эти обоюдо невыгодные отношения». При этом Перовский нисколько но обманывался насчет причины, вызвавшей такую перемену во взглядах помещиков. Он указывал на повысившиеся цены земли и на удачные опыты применения наемного сельскохозяйственного труда в Саратовской, Тамбовской, Пензенской, Воронежской и некоторых других губерниях[198]. Еще более «обоюдо невыгодными» становились крепостнические «отношения» в торгово-промышленной области народного хозяйства. Необходимо было расстаться с «неволей», завещанной старой Московской
Русью. Но, как замечал Перовский, даже «образованное» дворянство опасалось «последствий переворота, коих всякий благоразумный человек, знающий народ, и его понятия и наклонности, должен опасаться»[199]. Эти дворянские страхи еще надолго задержали бы дело уничтожения крепостного права, если бы не крымская катастрофа, доказавшая, по выражению Энгельса, что «Россия, даже с чисто военной точки зрения, нуждается в железных дорогах и крупной промышленности. Хотя наша высшая бюрократия была насквозь пропитана дворянским духом, неумолимая логика положения вынудила ее взяться за крестьянскую реформу. Меры, принятые правительством Александра II для так называемого освобождения крестьян, сами очень сильно отзывались Азией. Это их неподлежащее сомнению свойство долго ставилось ему в заслугу под названием будто бы беспримерного в истории Запада освобождения крестьян с землею. Я позволю себе об᾽яснить эту его мнимую заслугу теми же словами, какими я об᾽яснил ее в другой своей работе. «Крупнейший в мире помещик-рабовладелец, – государство, – решительно не мог помириться с тою мыслью, что освобождаемые крестьянские «души», с которыми он уже собирался распорядиться по-своему, сразу предстанут перед ним в виде многомиллионного пролетариата. С этой стороны его интересы разошлись с интересами остальных рабовладельцев, чем и об᾽ясняются те трения между тогдашними помещиками и «петербургскими чиновниками», которые некоторые добродушные люди до сих пор об᾽ясняют народолюбием известных слоев тогдашней бюрократии»[200]. По мнению крупнейшего в мире помещика-рабовладельца, чтобы освободить крестьян, надо было сделать их вполне зависимыми от государства, уничтожив их крепостную зависимость по отношению к помещикам. Так он и поступил. «Освобожденный» им крестьянин остался совершенно бесправным перед лицом государства, которое позаботилось о том, чтобы сохранить старую, завещанную московским и петербургским крепостничеством, форму крестьянского землевладения: переделы полей в сельских общинах. Азиатский характер крестьянского «освобождения», неблагоприятный для дальнейшего промышленного развития России, еще более неблагоприятен был для самих крестьян. Не дав им хотя бы части тех гражданских прав, которые необходимы производителю в обществе, основанном на товарном производстве, наша «крестьянская реформа» заставила их гораздо чаще, чем прежде, выступать на товарном рынке отчасти в качестве продавцов продуктов своего несложного сельского хозяйства, а отчасти в качестве продавцов своей собственной рабочей силы. Понятно, как невыгодны для них были рыночные сделки, совершавшиеся при подобных условиях. «Освобожденное» крестьянство беднело, а его обеднение задерживало рост внутреннего рынка для предметов промышленности, что было значительным препятствием для быстрого развития русского капитализма. Но капитализм так или иначе справился и с этим препятствием. Он все-таки шел вперед, а с ним все-таки подвигалась вперед и европеизация России. Если Петр своей реформой «прорубил
окно в Европу», то теперь для европейских влияний открылись широкие ворота. Через эти ворота они стали проникать в те части населения, которые прежде оставались недоступными для них: сначала в торгово-промышленный класс, а потом и в крестьянство, – в той мере, в какой новые отношения производства разлагали старые экономические устои земледельческого быта. В среде торгово-промышленного класса довольно быстро подвигалось вперед давно уже начавшееся, но долго не порождавшее заметных социально-политических последствий подразделение на два новых класса: буржуазию и пролетариат. Чем быстрее подвигалось вперед это подразделение, тем больше европеизовалась Россия. И. С. Аксаков говорил, что, только «обезнaродив народ», можно сделать его восприимчивым к передовым идеям Западной Европы. Развитие капиталистического способа производства совершило именно это чудо, представлявшееся совершенно невозможным славянофильскому публицисту: оно «обезнародило» значительную часть русского народа. Пресловутый «народный дух» не выдержал напора капитализма. Попадая в положение пролетария, русский производитель, хотя и продолжал в большинстве случаев числиться на бумаге крестьянином, начал понемногу выступать на тот самый путь, на котором ого далеко опередили Западно-европейские работники: на путь борьбы с капиталом. Эта борьба быстро развивала в нем новые, прежде неслыханные на Руси, настроения и стремления. А так как полицейское государство усердно отстаивало интересы капитала, то русский пролетарий быстро терял, один за другим, выносимые из деревень вековечные политические предрассудки крестьянина. Правда, развитие капитализма постоянно толкало в ряды пролетариата новые и новые толпы «серой деревенщины». Этим замедлялся рост политического сознания русского рабочего класса. До недавнего времени даже в самых громких выступлениях его, – например, в выступлении 9 января 1905 г., – заметно это отрицательное психологическое влияние деревни. Нельзя закрывать глаза и на то, что отсталые слои рабочего класса принимали иногда участие в погромах евреев и передовой интеллигенции. Но если развитие капитализма не могло сразу «обезнародить» отсталые слои пролетариата, то, говоря вообще, класс этот очень быстро развивался в политическом смысле и составил собою одну из тех двух сил, сочетание которых вызвало взрыв 1905–6 гг.: силу революционную. Другою силою, участвовавшею в этом взрыве, была, – сказал я, – сила крестьянского населения, добивавшегося «черного передела» согласно старым традициям аграрной политики российского государства, положенным между прочим и в основу наделения крестьян землею. Пока и поскольку эти две силы действовали в одном направлении, до тех пор и постольку побеждала революция. Но, разнородные по своей природе, они не могли долго действовать вместе: движение русской крестьянской Азии лишь на короткое время совпало с движением русской рабочей Европы. Когда они перестали действовать вместе, стала торжествовать реакция, т.-е. стало побеждать дворянство, защищавшее свои «недвижимые имущества». В этом все дело.
Одной из первых реформ, совершенных той дворянской контрреволюцией, которая восторжествовала благодаря слишком еще недостаточной европеизации крестьянства предыдущим ходом экономического развития, было законодательное уничтожение поземельной общины. Дворянство расчитывало, что, уничтожив поземельную общину, оно убьет ту старую аграрную традицию, во имя которой крестьянство считало себя в праве экспроприировать помещиков. И, разумеется, оно рано или поздно убьет ее. Но вместе с тем оно убьет все старое крестьянское миросозерцание, окончательно разрушив ту экономическую основу, на которой столько веков держался наш старый политической порядок. Это вряд ли будет согласно с интересами дворянства, но наверно будет вполне согласно с интересами пролетариата, поступательное движение которого задерживалось и задерживается политической инертностью старого крестьянина. Как бы там ни было, этот шаг дворянской контр-революции есть шаг в сторону европеизации наших общественно-экономических отношений, хотя, разумеется, оплаченный народом несравненно дороже, чем пришлось бы заплатить за него при других политических условиях[201].
Глава XXV Новые культурные явления и новые политические стремления, как следствие новых общественно-экономических отношений
«Обезнародив» часть трудящегося населения России, капитализм впервые обеспечил прочную общественную поддержку передовым стремлениям, проникавшим с Запада в Россию. Только с этих пор идеологи названных стремлений перестали быть «умными ненужностями» и «лишними людьми». Только с этих пор их, заимствованные у Запада, идеалы получили шансы на осуществление в России. Я уже сказал, что новая культура, после Петровской реформы проникшая с Запада в Россию, долго имела дворянский отпечаток. Это особенно заметно в том, что составляло лучший плод этой культуры: в литературе. Хотя уже почти на первых порах крестьянство дало ей такого чрезвычайно выдающегося деятеля, как Ломоносов, однако, в течение долгого времени наши литераторы вербовались главным образом из среды дворянства. В живописи это было не совсем так, но и живопись долго обслуживала эстетические потребности дворянства и считалась главным образом с его вкусами. Однако, консервативная часть дворянства была слишком мало просвещена для того, чтобы интересоваться литературой и искусством; к тому же она мало имела практической нужды в литературе (живопись, во всяком случае, могла понадобиться для портретов), так как ее главные сословные нужды достаточно удовлетворялись посредством «action directe», исходившей
из среды высшей бюрократии и из гвардейской казармы. Передовая же часть дворянства начинала выражать свои стремления в русской литературе в такое время, когда на Западе уже завязывалась освободительная борьба третьего сословия со светской и духовной аристократией. Это не могло не отразиться на характере стремлений передового дворянства. Продолжая быть, в известных отношениях, «барами» до конца ногтей, молодые дворянские идеологи становились в отрицательное отношение к наиболее грубым проявлениям дворянского сословного эгоизма. Так, уже в ХVIII в. они резко нападали на злоупотребления крепостным правом, а некоторые из них заговорили и о полном его уничтожении. Скажу больше. Вышедшие из дворянской среды передовые люди выставляли иногда такие социально-политические требования, осуществление которых означало бы полную отмену привилегий благородного сословия и проложило бы дорогу для широкого развития буржуазии и в экономической жизни, и в политике. Достаточно напомнить декабристов[202]. В тридцатых годах XIX в. некоторые идеологи дворянского происхождения переходят даже на точку зрения трудящейся массы, поскольку такая точка зрения свойственна тогдашнему утопическому социализму: А.И.Герцен, Н.П.Огарев и их кружок. Нечего и говорить, что подобные стремления отнюдь не могли увлечь дворянское сословие. Чем дальше вперед устремлялась тонкая струйка европеизованной дворянской мысли, тем тоньше она становилась и тем мучительнее сознавали передовые европеизованные дворяне свое практическое бессилие. «Наше состояние безвыходно, потому что ложно, – писал А.И.Герцен в своем дневнике, – потому что историческая логика указывает, что мы вне народных потребностей, и наше дело – отчаянное страдание». Как в литературе, так и в искусстве дворянская гегемония сменилась в половине XIX в. гегемонией разночинцев. Разночинцы входили, разумеется, в состав нашего «третьего сословия», но принадлежали к его демократическому крылу. Влиятельная, в экономическом смысле, часть этого сословия долго не оказывала прямого воздействия на развитие нашей литературы и нашего искусства. Первоначально она, по указанной выше причине, не поддавалась европеизации, а когда причина эта мало-по-малу перестала действовать, наша буржуазия долго не чувствовала нужды в печатном выражении своих требований, ограничиваясь непосредственными сделками с правительством, у которого она не переставала выпрашивать «субсидий», «гарантий» и покровительства «отечественной промышленности». Замечу мимоходом, что такое ее поведение составляет еще одну из относительных особенностей нашего исторического процесса сравнительно с историческим процессом крайнего европейского Запада: там буржуазия сыграла гораздо более революционную роль. Когда дворянский период литературы, искусства и общественной мысли сменился у нас разночинским периодом, вошло в обычай насмехаться над «лишними людьми» недавнего прошлого. Передовые разночинцы были твердо убеждены, что им не суждено выступать в этой печальной роли. Однако,
хотя и они были гораздо многочисленнее передовых дворян, они, в свою очередь, были ничтожны как общественная сила. «Охранители» легко подавляли все их практические попытки борьбы до тех пор, пока на историческую сцену не выступил новый борец в лице пролетариата. С появлением этого борца дело изменилось, во-первых, в том отношении, что теперь уже смешно было спорить о том, должна или не должна Россия итти по пути западно-европейского развития: ясно было, что не только должна итти, но уже идет, потому что капитализм становится в ней господствующим способом производства; во-вторых, стало очевидно, что «мы» вовсе не «вне народных потребностей», как с отчаянием восклицал некогда Герцен, и что экономическая европеизация России должна сопровождаться ее политической европеизацией. А это открывало такие широкие и отрадные перспективы перед русской разночинной интеллигенцией, что на некоторое время она вообразила себя готовой целиком перейти на точку зрения пролетариата. Все мало-мальски передовые люди об᾽явили себя марксистами. Но рядом с пролетариатом на исторической сцене России все-таки стояла буржуазия, тогда уже достаточно европеизованная в своих наиболее развитых слоях. Ее историческое воспитание в атмосфере всяких субсидий, гарантий и покровительств не выработало в ней боевого темперамента. Однако, она не чужда была политического недовольства, и мало-по-малу у нее явилась потребность в соответствующем ее оппозиционному настроению духовном оружии. За приготовление такого оружия, за идеологическую европеизацию нашей передовой буржуазии, взялись представители того же слоя разночинцев, который уже несколько десятков лет шел во главе нашего умственного движения. В его среде почти тотчас же после сплошного увлечения Марксом родилось новое увлечение: увлечение «критикой» Маркса. Критика эта представляла собою у нас попытку приспособить к умственным нуждам передовой русской буржуазии такую общественную теорию, которая выражала собою стремления сознательного западно-европейского пролетариата. Подобная попытка могла явиться только в такое время, когда буржуазные общественные теории Запада обнаружили свою несостоятельность. Задача, которую задавали себе люди, делавшие такую попытку, была теоретически нелепа и потому неразрешима. А так как она была неразрешима, то очень скоро «критика Маркса» сделалась просто «критикою», а просто «критика» свелась к разогреванию и переделке на новый лад старых буржуазных теорий. Делом такого разогревания сплошь да рядом занимаются теперь писатели, еще не так давно вполне искренно считавшие себя марксистами. Таким образом, за дворянским и разночинским периодом истории русской общественной мысли последовал новый, и теперь еще продолжающийся, период, в котором уже гораздо менее заметна идейная гегемония какого-нибудь одного общественного класса или слоя. Теперь нет господствующих умственных течений, теперь умственные силы распределяются главным образом между двумя полюсами: полюсом пролетариата, с одной стороны, и полюсом буржуазии – с другой. Кроме того, выступают еще теоретики прежней школы, не желающие
расстаться с дорогой для них верой в старые «устои» народно-экономической жизни. Но по мере того, как подвигается вперед европеизация России, теоретические позиции этих носителей старых «заветов» становятся все более и более шаткими, а сами носители обнаруживают все больше и больше растерянности. Дни их сочтены. Вся последующая история нашей общественной мысли определится взаимными классовыми отношениями пролетариата с буржуазией. В ходе развития этих отношений на «восточной равнине» Европы опять будут, конечно, свои относительные особенности, которые вызовут относительные особенности духовного развития. Бесполезно гадать теперь как о тех, так и о других. Но не бесполезно отметить то, что уже может быть предметом наблюдения. Мы видели, что пока русское общественное бытие оставалось непонятным с точки зрения западных социально-политических учений, исторический идеализм был единственно возможным убежищем для свободомыслящих русских людей, не желавших примириться с «гнусной рассейской действительностью». Когда успехи капитализма «обезнародили» русский народ до такой степени, что уже неудобно стадо толковать о самобытных путях нашего общественного развития, акции исторического идеализма страшно упали в цене. Тогда явился сильнейший спрос на исторический материализм, потому что только с его помощью можно было сделать удовлетворительный анализ как западно-европейского, так и русского общественного бытия. Но точка зрения исторического материализма была точкой зрения теоретиков пролетариата. Выводы, к которым приводил анализ русского общественного бытия с помощью исторического материализма, были неприемлемы для идеологов нашей европеизованной буржуазии. Поэтому исторический материализм пользовался у нас широкой популярностью только до тех пор, пока продолжалась борьба с совершенно устарелыми теориями народничества и суб᾽ективизма. Тотчас же после ниспровержения этих теорий началась «критика Маркса», означавшая между прочим также и отступление от исторического материализма «назад», к более или менее переделанному на новый лад историческому идеализму. Это отступление прикрывалось атакой на позиции того, что было названо философским материализмом и что в действительности составляет теоретико-познавательную основу материалистического об᾽яснения истории. Уже в последние годы XIX века идеологи нашей европеизованной буржуазии провозгласили философский материализм совершенно мертвым учением. Интересно, что им поверили в этом случае даже некоторые писатели, примыкавшие к пролетарскому лагерю, и еще более интересно, что эти идеологи пролетариата, поверившие на-слово идеологам буржуазии, показали себя неисправимыми утопистами в тактических вопросах. Говорил или не говорил Петр, что Россия современем должна будет повернутся «задом к Европе», – ясно, что в настоящее время она уже совершенно лишена всякой возможности поступить так. Это тем более ясно, что даже самые типичные из стран Востока движутся теперь к Западу. Между ними есть такие, которые как-будто грозят обогнать Россию в процессе этого движения. Китай сделала республикой, тогда как в России еще не утвердился парламентский
режим. Это об᾽ясняется одной из самых невыгодных для нас относительных особенностей нашего исторического процесса: русское полицейское государство было достаточно европеизовано для того, чтобы пользоваться в своей борьбе с новаторами почти всеми завоеваниями европейской техники, между тем как наши новаторы только с недавнего времени стали опираться на народную массу, которая, как мы видели, европеизована только в лице одной своей, – пролетарской, – части. Россия платится за то, что она слишком европеизована сравнительно с Азией и недостаточно европеизована сравнительно с Европой. Теперь мы можем перейти к подробному рассмотрению того, как перечисленные выше относительные особенности русского общественного бытия отразились на ходе развития русского общественного сознания.
Часть II. Движение общественной мысли в до-петровской Руси
Глава I Движение общественной мысли под влиянием борьбы духовной власти со светской
Противоречие ведет вперед (der Widerspruch ist das Fortleitende) – говорил Гегель. Это глубокое положение как нельзя лучше оправдывается историей общественной мысли во всем цивилизованном мире. Чем более обостряется взаимная борьба общественных классов, тем быстрее движется вперед общественная мысль. Но так как взаимная борьба общественных классов во всякой данной стране определяется, в последнем счете, ходом ее экономического развития, то все те обстоятельства, которые замедляют этот ход, задерживают также и движение общественной мысли. Нам уже знакомы теперь обстоятельства, замедлившие экономическое развитие в России и приведшие к продолжительному закрепощению государством всех общественных сил. В виду этих обстоятельств можно было бы a priori сказать, что движение общественной мысли на Руси должно совершаться очень медленно сравнительно с западно-европейскими странами, находившимися в более благоприятных условиях экономического развития. К этому априорному выводу можно было бы еще добавить, что, отставая от общественных взглядов западных европейцев, общественные взгляды русских людей станут сближаться со взглядами обитателей восточных деспотий в той самой мере, в какой русские, т.-е. собственно московские, общественные отношения станут приобретать восточный характер. Первым сильным толчком к развитию общественной мысли в средне-вековой Европе послужила, как известно, взаимная борьба светской и духовной властей. Чем больше обострялась она и чем меньше расположены были противники щадить друг друга, тем более щекотливыми становились те политические вопросы, которые выдвигались самим ходом спора. Говорю «политические вопросы» потому, что собственно богословские позиции были одинаковы для обоих споривших сторон. Для того, чтобы, в свою очередь, могли стать предметом спора эти позиции, общественное развитие Западной Европы должно было сделать еще много новых шагов вперед и выдвинуть на историческую арену новые, более прогрессивные общественные силы. Но и то, что было сказано, напр., во время столкновения Григория VII с Генрихом IV, представляло собою нечто довольно поучительное или, – если вы предпочитаете так выразиться, – соблазнительное. Известно, что Григорий VII, отлучив императора от церкви, об᾽явил его лишенным престола. Это вызывало вопрос: имел ли он право поступить так? А этот вопрос
естественно наталкивал споривших на рассмотрение нового и более глубокого вопроса о существе верховной политической власти. Защитники императора об᾽являли его власть божественным учреждением. Защитники же папы расположены были смотреть на нее совсем другими глазами. Они говорили, что императоры получают свою власть от народа и в интересах народа. Поэтому государи должны быть мудры, благочестивы и справедливы. Народы облекают их властью не для того, чтобы подчинить себя деспотам, а для того, чтобы иметь защитников против тирании. Значит, если государь становится тираном, то он сам нарушает договор, связывавший его с народом, и тогда народ уже не обязан ему повиноваться. Мы видим отсюда, что уже в XI веке[203] публицисты Западной Европы приходят к теории договора между народом и государем, игравшей впоследствии такую большую роль в освободительном движении третьего сословия. И надо заметить, что у защитников папы мы встречаем подчас довольно пикантные комментарии этой идеи. Один из них рассуждает так. Вообразите, что некто нанял человека, чтобы пасти своих свиней, а наемник не только не исполняет своей обязанности, но губит вверенное ему свиное стадо. Как поступит наниматель? Конечно, он с бранью и позором прогонит недобросовестного наемника. А если можно прогнать свиного пастуха, не исполняющего своей обязанности, то тем более можно прогнать правителя, злоупотребляющего своею властью. Право народа на устранение дурного государя во столько раз больше права нанимателя на устранение свиного пастуха, во сколько достоинство человека выше достоинства свиньи. Находчивый автор, приводящий этот пример, умеет найти возражение и против известного довода, гласящего, что несть власть аще не от бога. Он говорит, что тот же самый апостол, у которого был заимствован этот довод, предпочел смерть подчинению тирану. Вообще ко власти государя следует относиться с самым большим почтением. Но чтить надо не лицо, а сан, и раз данное лицо лишилось своего сана, оно уже теряет право на какое-нибудь исключительное почтение[204]. Держась такой точки зрения, можно оправдать самые решительные действия народа против дурного правителя. Защитники церкви нередко повторяли слова Иисуса: «я не мир принес, а меч». Некоторые, – правда, лишь самые крайние, – из них даже вменяли верующим в обязанность убийство тиранов, а отличительный признак тирании видели в нарушении государем прав народа: «истинный государь защищает законы и народную свободу, – писал один из епископов г. Шартра в XII в., – тиран попирает законы ногами и обращает народ в своего раба. Первый есть образ божий, второй – воплощенный Люцифер. Первого надо любить; второго умертвить». Людвиг Гумплович, может быть, не без основания называет епископа, проповедывавшего такой взгляд (Иоанна Сольсберийского), первым представителем доктрины «пропаганды действием»[205]. Защитники папской власти доходили не только до теории договора между
государем и его народом. Обращаясь к истории, они видели, что государи сплошь и рядом присвоивали себе власть помимо какого бы то ни было договора. Из этого они делали вывод весьма неблагоприятный для государей. В 1801 г. папа Григорий VII писал мецскому епископу: «Кто не знает, что светские государи обязаны своею властью врагам бога, которыми предводительствует сатана и которые хотят господствовать над равными себе людьми посредством высокомерия, грабежа, измены, предательских убийств и всех других преступлений?» Если Иоанн Сольсберийский явился первым представителем доктрины «пропаганды действием»[206], то папу Григория VII можно, пожалуй, назвать одним из первых вкладчиков в анархическую теорию «анти-этатизма» (противогосударственности). Западно-европейские публицисты того времени, – как те, которые стояли за папу, так и те, которые защищали императора, – принадлежали почти исключительно к духовенству. Почти исключительно к духовенству принадлежали тогда и те читатели, которые интересовались теоретическими вопросами указанного рода[207]. Но столкновение было так сильно, что вызванная им работа мысли не могла распространиться, по крайней мере отчасти, и на другие сословия, тем более, что воинствующая церковь очень охотно апеллировала к народу. Таким образом, взаимная борьба светской и духовной властей способствовала политическому воспитанию населения. То противоречие, которое привело на Западе к только-что отмеченной мною работе общественной мысли, существовало и в России. Здесь духовная власть тоже сталкивалась со светской; но здесь столкновения этого рода никогда не достигали значительной степени обострения. Поэтому наши защитники церкви никогда не доходили до таких крайних выводов, как западно-европейские, хотя, – необходимо теперь же отметить это, – мысль их начинала иногда работать в том же самом направлении. В течение киевского периода нашей истории глава русской церкви, митрополит, был независим от светской власти князей. Он выбирался константинопольским патриархом, к которому и должна была обращаться светская власть в случае какого-нибудь недовольства его ставленником. Проф. Н.Ф.Каптерев справедливо замечает, что в то время «духовный владыка русской земли был во многих отношениях сильнее и влиятельнее раз᾽единенных и враждующих между собою светских владык»[208]. Такое соотношение сил стало изменяться в противоположном смысле с тех пор, как упрочилась власть московских князей. Московские князья начали вмешиваться в дела о поставлении митрополита. Это не могло нравиться
ни константинопольскому патриарху, ни русскому духовенству. Отстаивание прав константинопольского патриарха явилось для этого последнего едва ли не важнейшим средством защиты своей независимости по отношению к светской власти. «Чин избрания и поставления в епископы» требовал от новопоставленного следующего знаменательного обязательства: «нехотƀти ми примати иного митрополита, развƀ кого поставятъ изъ Царяграда, какъ есми то изначала пріяли». Но власть константинопольского патриарха была несравненно слабее власти римского папы. Во-первых, на православном Востоке, кроме цареградского, были еще и другие патриархи, мало расположенные поддерживать его в столкновениях с московскими великими князьями. Так, например, в 60-х годах XV в., во время разрыва Москвы с Константинополем, иерусалимский патриарх всецело был на стороне московского князя[209]. Во-вторых, принятие константинопольским патриархом флорентийской унии сильно подорвало его авторитет в Москве. Наконец, константинопольский патриарх сам зависел от византийского императора. Поэтому его власть над русской церковью равносильна была зависимости московских великих князей от византийской светской власти. Такая зависимость была не в интересах московских князей, и неудивительно, что они старались избавиться от нее. С тех пор, как взят был турками Константинополь, о ней, разумеется, не могло быть и речи. Тогда постановка вопроса значительно упростилась: тогда спор светской власти с духовной стал домашним спором московских великих князей с московским духовенством. В теории московское духовенство держалось того убеждения, что «ино есть власть церковная, святительская, ино есть власть царская, земная»[210]. Но эта теория так неопределенна, что допускает самые различные толкования. Вполне признавая, что власть «святительская» представляет собою нечто совершенно иное, чем власть «земная», позволительно все-таки спросить себя: какая же из них выше? На Западе соотношение общественных сил в течение долгого времени решало этот последний вопрос в пользу «святительской» власти; на Руси, – т.-е. опять-таки собственно в Московском государстве, – ход общественного развития решал его, наоборот, в пользу власти земной – сначала великокняжеской, потом царской. Там, где все общественные силы страны были закрепощены государством, духовная власть не могла остаться независимой от светской. И мы видим, что сама духовная власть готова поставить светскую на недосягаемую высоту. Знаменитый Иосиф Волоцкой утверждал в своем «Просветителе», что царь «естествомъ подобенъ есть всƀмъ человƀкамъ, властью же подобенъ вышнему Богу»[211]. Это – чисто восточный взгляд на царя. В древнем Египте фараон до такой степени превосходил, по словам Маспэро, все его окружавшее, что возникает вопрос, следует ли смотреть на него как на человека или же как на бога. «И его подданные в самом деле смотрели
на него как на бога: они называли его добрым богом, великим богом»[212]. Конечно, тут есть и разница. Московский глава светской власти по «естеству» продолжает считаться человеком. Кроме того, он не «служит» в храме, как это делал египетский фараон. Но, как правитель, он обоготворяется подобно фараону. А это в данном случае главное[213]. М.А.Дьяконов давно уже указал на то, что подчинение духовной власти светской обусловливалось у нас главным образом экономической зависимостью церковной иерархии от государства[214]. Церковь была крупнейшим землевладельцем в Московской Руси. Но мы уже знаем, что крупное землевладение совсем не отличалось у нас такой независимостью по отношению к царской власти, какую мы видим на Западе. Более того: нам уже известно, что верховной власти удалось у нас наложить свою тяжелую руку между прочим и на крупное землевладение. Церковь не составила в этом случае исключения из общего правила. Светская власть пошла так далеко, что уже при Иване III стала задумываться над тем, могут ли монастыри владеть землями, т.-е. над вопросом об экспроприации церковных земель. Спор, вызванный этим вопросом, составляет один из самых ярких эпизодов в истории общественной мысли до-Петровской Руси. Читатель помнит, что, по мнению одного из епископов г. Шартра, истинный государь защищает законы и народную свободу, между тем как тиран попирает законы и порабощает свой народ. Опираясь на это различие истинного государя от тирана, этот епископ приходил к тому выводу, что христиане обязаны повиноваться только первому, а второму должны сопротивляться всеми мерами, до тираноубийства включительно. Византийские духовные писатели, имевшие такое огромное влияние на русских, тоже умели различать хороших правителей от дурных. Но это различие приводило их совсем не к тем выводам, к каким пришел епископ шартрский. В Изборнике Святослава помещен вопрос Анастасия Синаита: «да едва убо всякъ царь и князь отъ Бога поставляется?» Этот вопрос разрешается в таком смысле: «ови князи и царіе достойни, таковые чти, отъ Бога поставляются; ови же паки недостойни суще противу достоинству людям, тƀхъ недостоинство по Божію попущенію или хотƀнію поставляются... разумƀй и вƀруй, яко противу беззаконіемъ нашимъ тацƀмъ мучитолемъ предаемся»[215]. Если мучители поставляются богом за наше беззаконие, то ясно, что нам следует восставать не против них, а против самих себя, против своих собственных греховных побуждений, т.-е. отвечать на угнетение покаянием, постом и молитвою. Это – крайнее развитие
византийского взгляда: дальше этого смиренно итти не может. При таком смиренном отношении в правителям нет места для развития общественной мысли, а есть место лишь для духовных упражнений. Но безусловного смирения не бывает. Не было безусловным и смирение русских духовных иерархов[216]. Когда возник вопрос о секуляризации церковных имуществ, московское духовенство стало в оппозицию к светской власти. И тогда его теоретики не могли ограничиться рассуждениями о посте и молитве. Неизвестный автор статьи «О свободе святыя церкви» следующим образом разграничивает взаимные обязанности светской и духовной властей: церковный пастырь должен молиться за своего временного господина; «господин же пастыря своего с вещьми церковными (sic!) защищати должен есть». Вообще временный господин должен подчиняться духовной власти и не уклоняться «на десно или на шую» от заповедей пастыря своего. С своей стороны пастырь должен защищать права церкви «храбрƀ даже до своего кровопролитія, т.-е. рискуя своей жизнью»[217]. Это уж далеко не так смиренно, как ответы Анастасия Синаита. В Новгороде, духовенство которого дважды вынуждено было, как известно, уступить значительную часть своих земель московскому великому князю Ивану III, включено было в «чин Православия» следующее проклятие: «вси начальствующіи и обидящіи святыя божія церкви и монастыреве, отнимающе у них данныя тƀмъ села и винограды, аще не перестанутъ от таковаго начинанія, да будутъ прокляты». Это проклятие повторялось, повидимому, и в других странах, по крайней мере, в XVII веке[218]. В высшей степени замечательно, что спор о церковных имуществах побудил русских духовных писателей обратиться к латинским источникам и заимствовать из них теорию двух мечей: вещественного и духовного. Эта теория развивается в «Словƀ краткомъ противу тƀхъ, иже в вещи священные подвижные и неподвижные соборные церкви вступаются и отъимати противу спасенія души своея дерзаютъ, заповƀди божіи и церковные презирающе и православныхъ царей и великихъ князей истинное съ клятвою законоположеніе разоряюще и заповƀди божіи пріобидяще». По мнению автора этого слова, пастыри церкви должны прежде всего действовать духовным мечом «даже и до своего кровопролитія», а также и до предания противников анафеме. Однако, на этом им не следует останавливаться. Если «непослушни не сотворятъ повелƀнія и сопротивни пребудутъ, не хотяще
наказатися, ни вый своихъ гордыхъ пастыремъ подклонити», тогда помощью «плечій мирскихъ дƀйствовати могутъ мечемъ вещественнымъ на отвращеніе силы сопротивныхъ». В доказательство автор ссылается на общее отношение духовной власти к светской. Светская власть ниже духовной, и эта последняя не должна уступать ей при ее посягательствах. «Понеже по апостольскому ученію паче подобаетъ повиноваться Богу, нежели человƀкомъ. Мірстіи бо властели человƀцы суть: тƀло отъяти могутъ, души же ни»[219]. Даже Иосиф Волоцкой, готовый обожествлять верховного представителя светской власти, поспешил, по выражению М.А.Дьяконова, внести к своему ученію революционную поправку относительно царя, над которым царствуют скверные страсти и грехи, лукавство и неправда, гордость и ярость, неверие и хула. Такой царь, – учил благочестивый Иосиф, – не только не бог, а даже «не Божий слуга, но дьявол, и не царь, но мучитель». Иосиф советует не повиноваться такому царю: «и ты убо такого царя или князя да не послушавши, на нечестіе и лукавство приводяща тя, аще мучитъ аще смертію претитъ»[220]. Конечно, поправку можно признать революционной лишь с большой оговоркой: у нашего автора речь идет только о пассивном сопротивлении «мучителю»; мы ни слова не слышим от него о том активном сопротивлении недостойному государю, о котором так горячо распространялись на Западе еще Григорий VII и его сторонники. Но как бы там ни было, это опять уже не только пост и не только молитва. Мы видим, что наша церковь тоже не была безусловной сторонницей покорности светской власти. Ее теоретики проповедывали покорность только тогда, когда считали ее согласной с интересами своего сословия. А когда этим интересам грозила опасность со стороны светской власти, они заменяли проповедь покорности проповедью сопротивления, хотя бы и пассивного. Говоря о соборе 1502 года, – на котором был поднят вопрос о монастырских владениях, – один из историков нашей церкви замечает: «Если, может быть, великий князь ожидал и рассчитывал, что архиереи выдадут монахов, то он совершенно ошибался. Архиереи были из тех же монахов и принимали к сердцу интересы последних, как свои собственные»[221]. Как выражается тот же историк, «у членов собора нашлось мужество с решительной твердостью восстать на защиту монастырских имуществ». Они сослались на то, что еще евреи приносили в дар богу дома и нивы и что «левиты еврейские имели города, волости и села,
которые не могли быть продаваемы и отдаваемы и имели оставаться их одержанном вечным». Кроме того, они привели длинный ряд подобных же примеров из византийской и русской истории. Не довольствуясь этим, они сочли нужным указать даже на языческий Египет, где жрецы имели свои земли, неприкосновенные для фараона[222]. Словом, духовные отцы пустили в оборот весь запас своих исторических сведений и все силы своей логики. Этот, как нельзя более важный для них, спор направил их мысль в ту самую сторону, в которую уже давно устремилась мысль римско-католического духовенства. Одинаковые причины всегда порождают одинаковые следствия. И если бы это столкновение духовной власти со светской обострилось у нас до такой степени, до какой обострялись подобные столкновения на Западе, то можно с уверенностью сказать, что и наши духовные писатели не побоялись бы тех крайних выводов, к которым приходили теоретики западного духовенства. Между этими писателями нашлись бы, как и на Западе, свои горячие проповедники активного сопротивления и даже свои «монархомахи». Очень возможно, что в роли теоретического монархомаха не затруднился бы выступить сам Иосиф Волоцкой. Но для этого не было, да при указанных московских условиях и не могло быть, достаточной общественной причины. Спор о монастырских имениях, толкнувший мысль московских духовных публицистов в ту самую сторону, в которую так рано и так смело пошла мысль западных духовных монархомахов очень скоро окончился мировой сделкой. Иван III покинул мысль о секуляризации монастырских имений и даже согласился на жестокое преследование ненавистных православному духовенству «жидовствующих», которых он еще так недавно и так недвусмысленно поддерживал. А это, в свою очередь, повело к тому, что мысль духовных писателей перестала развиваться в оппозиционном направлении. В том, что М.А.Дьяконов назвал революционной прибавкой к учению Иосифа Волоцкого о светской власти, теперь уже не было никакой надобности, и потому о ней позабыл сам Иосиф. М.А.Дьяконов замечает, что Волоцкой со своими учениками и после уступки Ивана III старался «поставить авторитет священника выше авторитета государственной власти», так как не был уверен в ее стойкости[223]. Вряд ли можно сомневаться в том, что Иосиф вспомнил бы о своей «революционной» прибавке, а главное – вложил бы в нее действительно революционное содержание, если бы светская власть решилась отобрать монастырские имущества. Но московские князья уже не повторяли своей попытки или по крайней мере избегали делать это открыто. Им невыгодно было восстановлять против себя духовенство, так сильно содействовавшее укреплению и расширению их собственной власти. Притом же не надо думать, что, отстояв свои недвижимые имущества, духовная власть сделалась независимой по отношению к светской. Напротив, сохранение церковью своих имуществ надолго сделалось причиной нового усиления и упрочения зависимости «святительской» власти от земной. Опасение потерять эти имущества располагало
«святителей» ко все большей и большей уступчивости. Церковь стала подчиняться государству даже в таких случаях, когда речь шла о важнейших вопросах церковной организации. Проф. Н.Ф.Каптерев отмечает тот действительно весьма знаменательный факт, что когда Федор Иванович вздумал учредить у нас патриаршество, то он, по свидетельству статейного списка, «помысля со своею благоверною христолюбивою царицею Ириною», обратился за советом к боярам и, когда они одобрили его мысль, поручил Борису Годунову вступить в переговоры с антиохийским патриархом Иоакимом. «На участие в этом церковном деле какого-либо духовного лица, а тем более целого собора иерархов, нет и намека», – говорит г. Каптерев. «Очевидно, участие духовных властей в обсуждении вопроса об учреждении у нас патриаршества считалось пока совершенно излишним»[224]. Легко представить себе поэтому, каково могло быть значение патриарха в общественной жизни Московского государства. Поставленный по замыслу светской власти, он был силен и влиятелен до тех пор, пока ей подчинялся. Это убедительно показывает судьба Никона. По словам Н.Ф.Каптерева, еще некоторые современники пресловутого патриарха высказывали ту догадку, что он «и самого патриаршества был лишен в действительности вовсе не за церковь или за что-либо духовное, а за землю и за вотчины, которые он так неразборчиво приобретал. Выходило, по их представлению, что корыстолюбивая политика Никона грозила в дальнейшем чрезмерным увеличением патриарших владений, и по этой только причине его непременно надо было удалить с патриаршей кафедры[225]. Проф. Каптерев полагает, что такой взгляд современников на дело Никона имел серьезное основание в действительности. В том-то и дело, что уступка, на которую пошел Иван III в вопросе о монастырских землях, не была так велика, как это могло бы показаться с первого взгляда. Правда, земли остались в руках духовенства; но московское правительство приняло все зависевшие от него меры, чтобы подчинить распоряжение ими своему контролю. Известно, что почти все архиерейское управление находилось в руках не духовных, а светских лиц: архиерейских бояр, дворецких и дьяков, на рассмотрение которых нередко поступали даже собственно духовные дела. И вот этих-то лиц московское правительство постаралось подчинить своей власти. Согласно постановлению Стоглавого собора, архиереи не имели права назначать и увольнять без согласия царя своих светских чиновников. «Таким образом, – говорит проф. Каптерев, – в лице архиерейских бояр, дворецких и дьяков, назначаемых и увольняемых царем, все епархиальное управление архиерея, а также и патриарха, необходимо было подчинено очень чувствительному и стеснительному... контролю светской власти»[226]. Само собою понятно, что этим раздражалось
духовенство. Уже до Никона мы встречаем владык, склонных «к возгоржению на царскую державу». Одним из таких владык был новгородский митрополит Киприан, который занимал в Новгороде кафедру за 16 лет до Никона и был как бы его «прямым предшественником». Светская власть была очень недовольна «неправдами и непригожими речами Киприана»[227], имевшими самое непосредственное отношение к только что указанному, весьма стеснительному для духовных владык, контролю светской власти. Против того же контроля ополчился и патриарх Никон. «И егда повелит царь быти собору, – жаловался он, – тогда бывает; и кого велит избрати и поставити архиереев, – избирают и поставляют; и кого велит судити и обсуждати, и они судят и обсуждают и отлучают. И вся елика суть во епархии патриаршего имения, царское величество на свои протори емлет, и где велит, дают безчинно. Сице и от митрополичих епархий, и от архиепископлих, и епископлих, и честных и великих монастырей имения, по повелению его, емлют, и людей на службу, и хлеб и деньги повелением своим велит взять и возмут немилостиво и дани тяжки. И еще весь род христианский утягчи данми сугубо и трегубо и вящше и нечто бывает на пользу»[228]. Противоречие ведет вперед. Никон вовсе не склонен был думать об интересах народа. Но, раз вступив в борьбу со светской властью, стеснявшей духовенство, он вспомнил и об этих интересах. Он утверждал, что от неправды и насилий царя плачет не только «мати его святая великая соборная церковь», но и весь православный народ. «Государь царь за едино слово, аще кто о правдƀ молвитъ, языки рƀжетъ, и руки и ноги отсƀкаетъ, в заточеніе невозвратное посылаетъ, забыв смертный часъ, аки бессмертенъ и не чая будущаго суда Божія». В грамоте к константинопольскому патриарху Никон характеризует деятельность царя следующими сильными выражениями: «И весь род христіанскій утягчи данми сугубо и трегубо и вящше и ничто бываетъ въ пользу». В письме к самому царю Никон доходит до едкого сарказма: «Ты всƀмъ проповƀдуешь постити, – пишет он, – a нынƀ и невƀдомо кто не постится; скудости ради хлƀбныя во многихъ мƀстахъ и до смерти постятся и ƀсть нечего: и нƀсть,кто бы помилованъ былъ, но отъ начала царствія твоего вси купно отписаны давидскимъбеззаконнымъ отписаниемъ: нищіе и маломощные, слƀпые, хромые, вдовицы и черницы, и всƀ данми обложены тяжкими и неудобъ искусными, – вездƀ плачь и сокрушеніе, вездƀ стенаніе и воздыханіе, и нƀсть никого веселящася во днехъ сихъ»[229]. Все эти жалобы и упреки Никона были совершенно основательны. Как мало церемонился «тишайший» царь со своими «богомольцами», показывает между прочим следующий траги-комический эпизод с казначеем моныстыря преп. Саввы Сторожевского Никитой. Почтенный клирик сильно запил и в пьяном виде стал вести себя не совсем благообразно. Тогда Алексей Михайлович приказал держать его в келье под арестом, а для верности поставить к дверям его кельи стрельцов.
Никита обиделся этим и написал кому-то, что царь его обезчестил. Слух о письме дошел до Алексея Михайловича, который, с своей стороны, отправил грозное послание бедному Никите. «Да ты жь, сатанинъ угодникъ, – гремел он в своем письме, – пишешь къ друзьямъ своимъ и вычитаешь безчестье свое вражье, что стрƀльцы у твоей кельи стоять. И дорого добрƀ, что у тебя, скота, стрƀльцы стоять. Лутче тебя и честнƀе тебя и у митрополитов стоять стрƀльцы, и по нашему указу, которой владыко тƀмъ же путемъ ходить, что и ты, окаянный». Проф. Каптерев совершенно справедливо замечает по этому поводу: «Очевидно, Алексей Михайлович приказывал, как обычное дело, выдерживать под арестом и самих митрополитов, если который владыка начинал вести себя так же неблаговидно, как и саввинский казначей Никита»[230]. Алексей Михайлович считал обычным делом не только сажание под арест зашибавших хмелем прелатов. Никон сообщает: «А келейную-де его рухлядь всю, по указу великаго государя, боярин князь Алексей Никитич Трубецкой съ товарищи перебирали, и пересматривали, и переписывали и исъ той ево келейные рухледи лутчее все изволилъ великій государь взять на себя, государя». Это было совершенно в духе московского и вообще восточного деспотизма: подданный, как бы высоко ни стоял он на общественной лестнице, владел своею «рухлядью» лишь до тех пор, пока это было угодно земному богу – государю. Недовольный зависимым положением церкви, энергичный Никон выдвинул ту самую теорию, на которую опирались папы в своей борьбе со светской властью. Он утверждал, что «власти небесныя, сиречь духовныя, преизряднƀйше суть, нежели міра сего или временныя», и что поэтому «царь имать быти менƀе архіерея»[231]. Цари не должны были, по его мнению, «прикасатися намъ, помазанникомъ Божіим, судомь и управою чрезъ каноны»[232]. Но если римские папы могли в подтверждение этой теории выставить действительную, – и сравнительно очень большую, – общественную силу, то Никон в состоянии был подкрепить ее только ссылками на апостолов и на святого духа, Этого было слишком мало. Однако, раз возникший спор надо было кончить, и светская власть была по-своему вполне права, добиваясь его решения в свою пользу. Проф. Каптерев превосходно говорит: «Напрасно думают нежелание царя восстановить Никона на патриаршей кафедре объяснить только происками и интригами врагов Никона, ненавистью к нему бояр и вообще лиц, чем-либо им оскорбленных, – в действительности причина падения и окончательного осуждения Никона лежала глубже: она заключалась в тех воззрениях Никона на относительное достоинство священства и царства, какие он так откровенно резко высказал после удаления с патриаршей кафедры. Конечное осуждение Никона сделалось прямо государственной необходимостью, этого требовали интересы верховной государственной власти, безотносительно к церковной реформаторской
деятельности Никона к тем симпатиям и антипатиям, какие питали к нему те или другие лица»[233]. Но кто же мог осудить Никона? Только церковный собор. Было ли в интересах духовенства безусловное осуждение человека, главная вина которого заключалась в том, что он хотел поставить духовную власть выше светской? При всей своей угодливости по отношению к светской власти русское духовенство должно было сознавать, что это вовсе не в его интересах. Опасаясь его оппозиции, «тишайший» царь обратился к восточным патриархам, на которых он мог вполне рассчитывать, так как они не переставали докучать ему самыми назойливыми и подчас поистине бесстыдными просьбами о «милостыне». Алексей Михайлович легко мог сообразить и то, что интересы греческого духовенства совсем не затрагивались стеснением прав духовной власти в пределах Московского государства. Греки не обманули его ожиданий. На соборе 1667 г. они всеми силами поддерживали царские притязания. Если бы исход прений на соборе зависел только от них, то духовная власть Московского государства не только на практике, но и в теории была бы совершенно подчинена светской. Этому отчасти помешала оппозиция со стороны русского духовенства. Деспотический и несдержанный Никон был очень нелюбим своими подчиненными. Присутствовавшие на соборе 1667 г. русские духовные владыки ровно ничего не имели против его низложения. Тут они были целиком согласны с царем и с греками. Но их настроение резко изменилось, когда речь зашла о взаимном отношении двух властей. Тогда русские владыки если не совершенно перешли на сторону Никона, то все-таки отказались согласиться с греческими бродягами, – как называл их подсудимый патриарх, – головой выдававшими царю московское духовенство. Интересен дипломатический довод, выдвинутый ими против греков. Мы уже знаем, что Никон едко обвинял царя в жестоком угнетении церкви. Его бывшие подчиненные, оспаривавшие учение греческих иерархов о подчинении царю духовной власти, выражались мягче и дипломатичнее. Они говорили грекам, что если бы в Московском государстве всегда были такие добрые люди, как Алексей Михайлович, то церковь не пострадала бы от своего подчинения им. Но современен могут явиться менее благодушные государи, и тогда церкви придется плохо. В ответ на это греческие «бродяги», – устами хитрейшего Паисия Лигарида, – лицемерно выразили почтительное убеждение в том, что у такого доброго царя, как Алексей Михайлович, не может быть злых наследников и что поэтому теория, подчиняющая духовную власть светской, никогда не принесет вреда русской церкви[234]. Само собою понятно, что этот лицемерно
и нелепо оптимистический довод не мог успокоить русских архиереев; но сил за ними не было, их положение на соборе становилось затруднительным, и они, вероятно, с облегчением вздохнули, когда греки согласились на сделку, состоявшую в признании теории «двух светильников». Как в природе есть два светильника, один из которых светит только днем, а другой только ночью, так и в государстве должно быть две власти: одна, заведующая духовными делами, а другая – светскими. Ни одна власть не должна вмешиваться в дела, подчиненные другой. Собственно такая теория ровно ничего не решала по своей крайней растяжимости[235]. Но для слабой стороны всегда гораздо выгоднее оставить спорный вопрос неразрешенным, чем согласиться на категорическое решение его в пользу сильного противника. Кроме того, московское правительство, которому с тылу угрожал раскол, вызванный вполне одобренными им церковными «новшествами» Никона, в свою очередь не могло не пойти на некоторые уступки в области практики. Так, например, уничтожен был, хотя и не так скоро после собора, ненавистный Никону монастырский приказ, сильно стеснявший духовенство в распоряжении его имуществом и делами. Но эта практическая уступка тоже не имела существенного значения, потому что значительная часть дел, подлежавших ведению монастырского приказа, перешла в приказ Большого Дворца. Светская власть все-таки не забыла своего столкновения с патриархом Никоном. Недоделанное Алексеем Михайловичем было доделано Петром Алексеевичем, который, как известно, совсем упразднил в России звание патриарха. С учреждением синода ни о каких столкновениях светской власти с духовной не могло быть у нас и речи. С этих пор склонным к теоретическим упражнениям церковным иерархам оставалось лишь доказывать «правду воли монаршей». Сомневаться в этой правде им редко приходило в голову. А если когда и приходило, то они все-таки предпочитали благоразумное молчание[236]. Нечего и говорить.
что с тех пор никто из них ни разу не решился поставить светской власти на вид, – как это сделал когда-то ехидный Никон, – до какой степени излишне рекомендовать пост народу, уже и без того осужденному ею на беспрерывное недоедание. В дальнейшем своем изложении я могу не заниматься вопросом об отношении русской духовной власти к светской, так как оно уже не давало ровно никакого материала для последующего развития русской общественной мысли.
Глава II Движение общественной мысли под влиянием борьбы дворянства с боярством
Если первым крупным побуждением к развитию общественной мысли в средневековой Европе послужила борьба светской и духовной властей, то второй, гораздо более крупный и несравненно более плодотворный, толчок дан был освободительным движением третьего сословия. Общественно-политическое влияние этого движения было так велико, что даже развитие абсолютной монархии в передовых странах европейского материка может быть рассматриваемо лишь как один из его эпизодов. Для примера можно указать на Францию, бывшую некогда классической страной феодализма. Борясь с феодалами, французские короли опирались именно на третье сословие, которому выгодно было усиливать монархическую власть на счет власти землевладельческой аристократии. Я уже указал (см. Введение) на ту относительную, – однако же, совсем немаловажную, – особенность русского исторического процесса., которая вызвана была экономическою отсталостью Московской Руси и заключалась в том, что русские монархи в своей борьбе с крупным землевладением опирались не столько на горожан, сколько на мелкое служилое сословие, с течением времени получившее название дворянства. Эта особенность, как и следовало ожидать, отразилась также и на истории нашей общественной мысли. Во Франции замечательнейшими публицистами, отстаивавшими права королевской власти, были идеологи третьего сословия, к числу которых нельзя не отнести между прочим знаменитого Жана Бодэна, называемого предшественником Монтескье. В до-петровской Руси наиболее выдающимся теоретиком московского абсолютизма является человек, обоими ногами стоявший на точке зрения мелкого служилого сословия: старший современник Жана Бодэна, царский «холоп Иванец Семенов сын Пересветов». И.С.Пересветов был родом из Литвы, откуда издавна приходило в Москву много всякого рода искателей счастья[237]. Положим, ему в Москве не повезло, хотя он и получил поместье, однако, оно скоро запустело. Но этот неудачник написал несколько сочинений, которые заключали в себе целую программу внутренней и внешней политики, удивительным, образом совпадавшую с важнейшими, – частью лишь значительно позже возникшими, – планами Ивана Грозного.
Прежде чем приехать в Москву нашему публицисту пришлось немало постранствовать. Он служил в Молдавии, в Венгрии и в Богемии. Но интересно, что в своих сочинениях он апеллировал не к Западу, а к Востоку. Идеалом служил ему «турецкий царь Махмет-салтан», который был, по его уверению, «философ мудрый по своим книгам по турецким», а потом прочел греческие книги, вследствие чего «великая мудрости прибыло у царя»[238]. Пересветов всей душой ненавидит «велможъ». Он неустанно повторяет, что от них идет все зло в государстве. Для доказательства этого положения наш публицист написал даже особое «Сказание о царе Константине». Герой этого сказания – тот «благоверный царь Константин Иванович», при котором «Царьград взят бысть от турецкаго царя Махмета». В Константине была «ангельская сила», и он родился таким воином, что от его меча «вся подсолнечная не могла сохранится». Но его укротƀли» вельможи, имевшие на него самое вредное влияние и своими неправдами навлекшие на Царьград неутолимый гнев божий. Вот как вели себя гордые вельможи. «Он (Константин. Г.П.) от своего отца, благоверного царя Ивана, остася млад царствовати, трех лƀт от роженія своего в Константинƀ-градƀ і на всемъ царствƀ греческаго закону христианскія вƀры. Велможи его до возрасту царева царствомъ его обладали і измытарили, і неправдами ісцƀпили і своими неправедными суды, і особную брань в царствƀ томъ учинили; другъ ко другу сердца своего не могъ обратити в добродƀтели, і сипƀли другъ на друга, яко змеи, і наполнили велможи его нечистымъ собраніемъ казны свои великимъ богатствомъ, і отъ бƀдъ, отъ слезъ і от кровей роду христіанского неправедными суды своими, емлючи посулы со обоихъ сгранъ, съ правого і съ виноватаго, і казны свои наполнили златом і сребромъ і многоцƀнным каменіемъ, нечистымъ своимъ собраніемъ»[239]. В действительности царь Константин XI, при котором взят был турками Константинополь, лишился отца 10-ти лет, а вступил на престол на 44-ом году. Таким образом, Пересветовское «сказание» о нем противоречит исторической истине. Мы не имеем теперь никакой возможности решить, знал или не знал Пересветов, как обстояло дело с действительным Константином. Но у нас есть полная возможность решить, под каким влиянием он исказил, – умышленно или по незнанию, это в данном случае решительно все равно, – в своем повествовании историческую истину. Для этого достаточно вспомнить, что Иван IV потерял отца 3-х лет от роду, и сопоставить следующие жалобы этого царя с только-что цитированными строками из «Сказанія» Пересветова о Константине. «Тако же изволися судьбами Божіими быти, родительницƀ нашей благочестивƀй царицƀ Еленƀ прейти от земногоцарствія на небесное – говорит Иван, – намъ же со святопочившимъ братомъ Георгіемъ сиротствующимъ отставъ родителей своихъ, ни откуду промышленія уповающе, и на пресвятыя Богородицы милость и всƀхъ святыхъ молитвы и на родителей своихъ благословеніе упованіе положихомъ.
Мнƀ же осмому лƀту отъ рожденія тогда преходящу,подвластнымъ нашимъ хотƀніе свое улучшившимъ, еже царство безъ владƀтеля обрƀтоша, насъ убо государей своихъ ни коего промышленія добротнаго не сподобиша, сами же премƀсишася богатству, и славƀ, и тако скачаша другъ на друга» и т. д.[240]. Тут поразительное сходство: «Сказаніе» Пересветова, написанное лет за 16–17 до начала полемики Ивана с Курбским[241], целиком предвосхищает жалобы Грозного. Это значит, что Пересветов отнес на счет византийских «велможъ» начала XV века все слышанное им о детстве Ивана IV в том кругу московского служилого сословия XIV века, который был враждебен боярству. А это дает нам право думать, что настроение того же круга служилого сословия отразилось и на других повествованиях и обличительных произведениях Пересветова. По его словам, византийские «велможи», грабя народ и наполняя свои казны великим богатством, со страхом помышляли о том времени, когда молодой царь придет в возраст и покажет свои необыкновенные воинские способности. Чтобы не лишиться «своего упокою», они придумали написать «от Бога с великою клятвою» книги, в которых доказывалось, что христианскому государю позволительно вести только оборонительные, а не наступательные войны. Константин прочел эти книги и оставил свои прежние воинственные замыслы (»да и укротƀл»). А когда он «укротƀл», то Махмет-салтану, пришедшему под Царьград с великою силою по суху и по морю, легко было справиться с ним. Пересветов так выражает главную мысль своего сказания: «богатый николи же воинствы не думаетъ, мыслитъ о смиреніи і о кротости. Царь кротокъ і смирен на царствƀ своемъ, і царство его оскудƀетъ, і слава его низится. Царь нацарствƀ грозенъ і мудръ, царство его ширƀетъ, і имя его славно по всƀм землям. – А греки благовƀрнаго царя Константина укротили отъ ереси своея, і они царство потеряли»[242]. Константин пал и погубил свое государство благодаря тому, что доверился «велможамъ». Его победитель, Махмет-салтан, умел крепко держать в своих руках турецких «велможъ». Он никому из них ни в котором граде не дал наместничества, чтобы «не прелщалися неправдою судити»; с теми же судьями, которые были назначены но городам, он расправлялся подчас с утонченною жестокостью. «Да по малƀ времени обыскалъ царь судей своихъ, какъ они судятъ, і на нихъ довели пред царемъ злоемство, что они по посуламъ судятъ. I царь имъ вины в том не учинил, только ихъ велƀлъ живых одрати да рек такъ: есть ли онƀ обростутъ тƀломъ опять, іно имъ вина отдается. I кожи ихъ велƀл продƀлати, і велƀл бумаги набити, і в судебняхъ велƀл желƀзнымъ гвоздіемъ прибити, і написати велƀл на кожахъ ихъ: Без таковыя грозы правды въ царство не мочно ввести. Правда въвести царю въ царство свое, іно любимаго не пощадити, нашедши виноватаго. Какъ конь под царемъ безъ узды, такъ царство без грозы»[243]. Пересветов вполне одобряет эту
жестокость своего героя. Он говорит, что ею Магомет «правый суд в царство свое ввел, а ложь вывел»[244]. Жестокость необходима, по его мнению, «чтобы люди не слабели ни в чем и Бога не гневили». Это мнение Пересветова о пользе жестокости для блага всей страны было высказано значительно раньше, чем Иван IV сделался грозой своих бояр. Отсюда мы видим, что его террор был, по крайней мере до известной степени, в духе своего времени, т.-е. что он соответствовал взглядамъ нравам и требованиям некоторой и притом, по-своему, влиятельной части тогдашнего населения Московского государства. «Великая гроза царева» распространена была Махмет-салтаном между прочим и на войско. По это не помешало ему любить своих воинников: он»умножилъ сердце свое к войску своему і возвеселил вся войска своя»[245]. «Воинники» несли тяжелую службу и за то пользовались заботливым вниманием со стороны царя. Он говорил им: «не скорбите, братіе, службою, мы же без службы не можем быти на земли; хотя мало цар оплошится и окротƀетъ, іно царство его оскудƀетъ і иному царю достанется; яко же небесное по земному, а земное по небесному, ангели божіи, небесныя силы, ни на единъ часъ пламеннаго оружія из рукъ не испущаютъ, хранят и стрегутъ родъ человƀческій отъ Адама і по всякъ часъ, да и тƀ небесныя силы службою не стужаютъ»[246]. По словам Пересветова, Махмет «умудрился», организовав 40.000 «янычанъ», «горазныхъ стрельцовъ, со огненою стрƀльбою». Это сорокатысячное войско нужно ему и всему царству: «Для того ихъ блиско себя держитъ, чтобы его недругъ въ его земли не явился і измƀны бы не учинилъ, і в грƀхъ бы не впалъ безумный царя потребить, велми множившися, и разгордится і царемъ похощетъ быти, то же ся ему не достанет, а самъ навƀки погибнетъ от грƀха своего, а царство безъ царя не будетъ; для того царь бережетъ, а янычяня у него, вƀрныя люди, любячи царя, вƀрно ему служатъ про его царьское жалованіе»[247]. Но важнее всего то, что, пополняя ряды этой турецкой опричнины, султан Махмет считался не с происхождением служилых людей, а с их личными качествами. Пересветов приписывает турецкому монарху весьма характерные соображения по этой части. «Братіе, – говорил будто бы Махмет, – всƀ есмя дƀти Адамовы; кто у меня вƀрно служить і против недруга люто стоит, тот у меня и лутчей будетъ»[248]. Это соображение не могло понравиться московским боярам, в глазах которых местнические счеты имели такую огромную важность; но оно должно было встретить очень сочувственный отклик в неродовитой части московского служилого сословия. Когда Иван Грозный заводил на Москве своих русских «янычар», он тоже ценил «адамовых детей» не по их родовитости, а по их годности к исполнению его планов. Но Пересветов был не только лишенным родовых связей служилым человекам; он был, как мы знаем, литовским выходцем. Вероятно, поэтому в своем политическом романе он и не позабыл приписать Махмет-салтану внимательное отношение к служилым людям иностранного происхождения. «А у нынƀшняго
у царя у турецкаго Орнаутъ-паша Орнаутьскіе земли полоняникъ былъ, да удался против недруга крƀпко стояти и полки пробивати; да Короманъ-паша – Короманскіе земли полоняникъ, для того имъ слава повышена, для ихъ великія мудрости, что умƀютъ царю служити і против недруга крƀпко стояти. A вƀдома нƀтъ, какова отца онƀ дƀти, да для ихъ мудрости царь велико на нихъ имя положилъ для того, чтобы і иные такоже удавалися вƀрно царю служити»[249]. Укажу еще одну достойную внимания черту этого чрезвычайно интересного русского политического романа XVI века. Его грозный и жестокий герой был решительным противником рабства. Он находил, что человек может быть только рабом божиим: «велƀл перед себя книги принести полныя и докладныя, да огнемъ велƀлъ пожещи. I полоняником уставил урок, доколƀ кому работати, а седмь лƀтъ выробився,і в силахъ – девять лƀтъ. Есть ли кто кого дорого купитъ, а чрез девять лƀтъ будетъ держати, і будет на него жалоба от полоняника, іно на таковаго царськая опала і казнь смертная»[250]. Пересветов выступает здесь перед нами сторонником освобождения кабальных холопов. Такое требование может показаться странным в устах московского «воинника» XVI столетия. В виду этого не мешает напомнить некоторые, уже указанные во Введении, черты хозяйственного развития Московского государства. Служилые люди этого государства очень нуждались в рабочих руках для обработки своих земель. Уход крестьян из вотчины или поместья равносилен был разорению вотчинника или помещика. Поэтому и помещики, и вотчинники одинаково заинтересованы были в том, чтобы воспрепятствовать такому уходу. Точно так же и те, и другие одинаково заинтересованы были в том, чтобы привлекать на свои земли крестьян, еще не утративших тогда своей свободы переселения. Но богатые вотчинники могли дать больше льгот крестьянам, селившимся на их землях, чем бедные помещики. Оттого крестьяне охотнее шли к ним, покидая помещичьи земли. Вполне понятно, что помещики не могли равнодушно относиться к такому переходу. Запустение их имений очень раздражало их как против самих крестьян, которых они старались задерживать всеми средствами, до насильственных включительно, так и против владельцев крупных имений. Около половины XVI века дело значительно осложнилось и ухудшилось массовым уходом крестьян из центральных местностей Московского государства на южные и юго-восточные окраины, постепенно делавшиеся все более и более доступными для земледельцев. Центральным местностям пришлось тогда пережить хозяйственный кризис, имевший очень важные политические последствия. Переселение крестьян из центра на окраины в конце подрывало благосостояние не только мелких помещиков, но и крупных вотчинников. Становясь беднее, родовитое боярство теряло свое прежнее влияние в московском обществе и, как уже отмечено во Введении, делалось вес менее решительным в своих столкновениях с верховной властью, которая не переставала стремиться к полному подчинению себе всех общественных сил.
Хозяйственный кризис половины XVI века весьма значительно облегчил и ускорил окончательное торжество московского деспотизма. И не только тем, что, ослабни общественное значение бояр, уменьшил силу их сопротивления государю. Помещики, разорявшиеся вследствие ухода крестьян из центра на окраины, делались все более и более послушными орудиями центральной власти, так как только она одна и могла притти им на помощь. Это их настроение и отразилось вообще на публицистических трудах Пересветова, а в частности на его рассуждении о рабстве. Хозяйственный кризис очень обострил взаимное соперничество мелких помещиков и крупных вотчинников из-за рабочей силы крестьянина. Но и теперь, как прежде, крупному вотчиннику легко было одержать победу над мелким помещиком. Теперь в крупных вотчинах крестьян стали закабалять, чтобы воспрепятствовать их уходу. И это закабаление приняло, как видно, довольно широкие размеры[251]. Оно не ускользнуло от проницательного взора Пересветова. Как человек смелый и последовательный в своих суждениях, он придумал коренную меру борьбы с распространением холопства: полное его уничтожение. А раз придумав эту коренную меру, он, по своему обыкновению, захотел оправдать ее ссылкой на истории Византии: «При царƀ Константинƀ у велможъ его лучшіе люди порабощены были в неволю», вследствие чего потеряли всякое мужество, «противъ недруга крƀпкаго бою не держали і з бою утƀкали і ужасъ полкомъ царевымъ інымъ давали, они же прелщалися»[252]. Это, по словам Пересветова, и побудило Махмет-салтана освободить их. Когда он дал им свободу, «они стали у царя храбры, лутчіе люди, которые у велможъ царевыхъ въ неволи были»[253]. Это указание Пересветова на причинную связь между личным мужеством и состоянием свободы представляет собою едва ли не самый интересный факт в истории общественной мысли Московской Руси. Мы сейчас увидим, однако, в какие тесные пределы заключено было у Пересветова понятие свободы. Заметив, как храбро ведут себя на войне люди, освобожденные им из кабалы, Махмет-салтан сказал: «Волю Божію сотворилъ есмь, что Богъ любитъ, в полкъ к себƀ юнаков храбрыхъ прибавилъ»[254]. Он вообще часто ссылался на бога и был
так благочестив, что если и не обратился в христианскую веру, то единственно потому, что этому воспротивились его «сеиты». Но, яркими красками изображая благочестие своего героя, Пересветов никогда не покидает, однако, чисто светской точки зрения. Он находит, что иное дело «истинная вера», а иное дело «правда». Его повесть о Махмет-салтане заканчивается пожеланием, – вложенным в уста одного из «латынян», будто-бы споривших с греками о причинах падения Византии, – чтобы русские к своей истинной христианской вере прибавили правду турецкую: «А къ той бы правдƀ турецкой да вƀра христіанская, іно бы с ними ангела же бесƀдовали»[255]. В других местах он идет еще дальше и весьма прозрачно намекает, что правда важнее веры. «Коли правды нƀтъ, то всего нƀтъ», – говорит у него в первой из двух челобитных, поданных царю Ивану Васильевичу, «воевода волоскій» (молдавский господарь) Петр. Тот же Петр, от имени которого Пересветов обличает тогдашние русские порядки, так рассуждает у него в той же челобитной: «Iно невƀрный іноплеменникъ да позналъ силу Божію, Махметъ-салтанъ, царь турецкий, взялъ Царьградъ і управилъ праведенъ судъ, что Богъ любитъ, во всемъ царствƀ своемъ, і утƀшил Бога сердечною радостію, і за то ему Богъ помогаетъ, многіе царства обладал»[256]. Наконец, несколькими строками ниже волоский воевода категорически заявляет: «не вƀру Богъ любить, но правду»[257]. С этим вряд ли согласились бы духовные писатели вроде Иосифа Волоцкого. Правда, которую отстаивает в других своих сочинениях наш автор и на защиту которой он выдвигает волоского воеводу, – та самая правда, какую мы уже видели в «Сказании о Махмет-салтане». Пересветов везде является непримиримым врагом боярства. «Такъ говорить волоский воевода про русское царство, – читаем мы у него, – что вельможи русского царя сами богатеютъ і лƀнивƀютъ, а царство его оскужаютъ; і тƀмъ они слуги ему называются, что цвƀтно і конно і людно выƀзжаютъ на службу его, a крƀпко за вƀру христианскую не стоять і люто противъ недруга смертною игрою не играютъ, тƀмъ Богу лжутъ і государю»[258]. Вельмож у русского царя много, но пользы от них ему и царству мало; они слишком богаты для того, чтобы хорошо служить. «Что ихъ много, коли у нихъ сердца нƀтъ добраго, і смерти ся боятъ, і не хотятъ умрети за вƀру християнскую, і какъ бы имъ не умирати всегды, – продолжает тот же воевода. – Богатый о войне не мыслитъ, мыслитъ о упокои; хотя и богатырь обогатƀетъ, і онъ обленивƀетъ»[259]. Пересветов готов обвинять «велможъ» в ересях и даже в колдовстве. Те из них, которые приближены к царю не за воинскую выслугу и не за особенную «мудрость», кажутся ему преимущественно подозрительными но части колдовства и ереси. «Iно про тƀх говорятъ такъ мудрыя философы: то ость чародƀи і ересники, у царя счастіе отимаютъ і мудрость царьскую, і къ себƀ царьское сердце зажигаютъ ересію і чародƀйством, і воиньство кротягъ»[260].
С такими нужна, но мнению Пересветова, беспощадная расправа. Волоский воевода говорит у него: «Таковыхъ подобаетъ огнемъ жещи і иные лютые смерти имъ давати, чтобы зла не множилос»[261]. В назидание русскому царю опять делается ссылка на историю Византии: «А благовƀрнаго князя Константина осƀтили кудесы і вражбами і уловили, і мудрость от него воинскую отлучили, і богатырство его укортили, і меч царьскій воинскій отпустили, і учинили его в безпутномъ житіи; именемъ было царскимъ не мочно прожить никому, ни главы із дому не выклонити, ни версты переƀхати оть бƀдъ і от обид вслможъ его: все царство заложилося за велможъ его, і слыли ихъ имянем для прожитку, ждучи мудрости царския, і не дождали»[262]. Все русское царство также заложится за вельмож, если царь Иван не позаботится о том, чтобы своевременно предотвратить эту опасность. Еще в «Сказании о Махмет-салтане» Пересветов сообщал о том, как турецкий царь «велел со всего царства все доходы себе въ казну імати, а никому ни в котором градƀ намƀстничества не дал велможамъ своимъ для того, чтобы не прелщалися неправдою судити, і оброчилъ велможъ своихъ іс казны своей, кто чего достоинъ»[263]. С точки зрения тогдашних русских порядков, это сочувственное сообщение о полезных для царства мероприятиях Махмет-салтана равносильно было совету отменить ненавистную московскому населению систему «кормлений», открывавшую такой широкий простор для злоупотреблений со стороны бояр, кормившихся на счет вверенных им местностей. Надо заметить, что московское правительство скоро сделало решительные шаги для отмены системы кормлений. Правда, реформа была сделана не в духе Пересветова. Он был последовательным централистом и советовал поставить во главе областного управления царских чиновников с определенным денежным жалованием. На самом же деле, вместо царских чиновников во главе областного управления выступили, в 50-х годах XVI века, излюбленные старосты, излюбленные головы и земские судьи. Такая система требовала меньших расходов, нежели рекомендованный Пересветовым последовательный бюрократический централизм. Вообще во всех практических рассуждениях нашего публициста заметна черта, кажется, еще не отмеченная исследователями. Этот талантливый человек, так ярко выражающий стремления тогдашнего дворянства, как-будто не отдает себе ясного отчета в тех экономических условиях, в которых жило и действовало население Московского государства: он очень сильно преувеличивает его денежные средства. Доказывая необходимость прочного обеспечения «воинников», он предполагал, повидимому, что Московское государство в состоянии оплатить всю их службу денежным жалованием, между тем как на самом деле оно могло платить за нее главным образом землею. Вот почему планы Пересветова с экономической своей стороны представляются несравненно более отвлеченными, нежели со стороны политической. Следует думать, что этот их недостаток об᾽ясняется иноземным происхождением Пересветова. Проведя значительную часть своей жизни в таких
странах, как Польша и Богемия, гораздо более, нежели Москва, богатых денежными средствами, он, должно быть, плохо выяснил себе экономические средства, которыми мог располагать его новый государь. «Ересники» и чародеи, отнимающие у царя его счастье и его мудрость, помимо всех своих других грехов, особенно опасны для государства тем, что они «воиньство кротятъ». «Воинниками царь силенъ і славенъ»[264]. Оттого он должен «веселить сердца воинниковъ ис казны своея». Если он станет держаться этого правила, то царской казне конца не будет, а царство никогда не оскудеет. И снова, и снова возвращается Пересветов к той мысли, что награждать и возвышать воинников надо не за их происхождение, а единственно только за их личные заслуги. Воинников, не щадящих своей жизни в борьбе с царскими недругами, царь должен к себе «припущати блиско, і во всемъ имъ вƀрити, і жалоба ихъ послушати во всемъ і любити ихъ, яко отцу дƀтей своихъ, і быти до нихъ щедру»[265]. Эту идиллию Иван Грозный на свой звериный манер осуществлял потом в своих сношениях с опричниками. Как уже сказано выше, внимание Пересветова привлекала к себе не только внутренняя, но и внешняя политика Московского государства. Нам уже известно, какую губительную роль играли набеги хищных кочевников в жизни оседлых русских земледельцев. Пересветов обнаруживает вполне ясное понимание этой губительной роли. Он приписывает молдавскому господарю между прочим такое мнение о задачах московского царя в борьбе с кочевниками: «Таковому государю годится держати двадцать тысящъ юнаковъ храбрыхъ со огненою стрƀльбою, гораздо учиненою, и стояли бы поляницы съ украины на поли при крƀпостех отъ недруга, от крымскаго царя, ізоброчивши ихъ ис казны своимъ жалованіемъ государским годовымъ; і они навыкнуть в поли жити і недруга его, крымскаго царя, воевати. Iно та ему двадцат тысящъ лутчи будутъ ста тысящъ, а украины его всƀ будутъ богаты і не оскужены отъ недруговъ. А мочно ему, таковому сильному царю, то все учинити»[266]. Но меньше интересует Пересветова и отношение Москвы к Казанскому царству. Неизменный доброжелатель московского государя, «волоский воевода» говорит у него так: «а слышалъ есми про ту землю, про Казанское царство, у многихъ воинников, которые в царствƀ Казанскомъ бывали, что про нея говорят, прямƀняютъ ея к подрайской землƀ угодіемъ великимъ»[267]. Землю эту непременно надо завоевать. «Да тому велми дивимся, – продолжает волоский воевода, – что таковая землица не великая, велми угодная, у такового великаго, сильнаго царя подъ пазухою, а не в дружбƀ, а он ей долго терьпитъ і кручину от нихъ великую пріймает; хотя бы таковая землица угодная і в дружбƀ была, іно было ей не мочно терпƀти за такое угодне»[268]. Этого мнения держался не один волоский
воевода. Если верить Пересветову, в Литве «философи і докторы латинскіе» предсказывали царю Ивану Васильевичу победу над Казанским царством, которое он «возметъ своимъ мудрымъ воинствомъ, да і креститъ»[269]. Те же мудрые и ученые люди думают, что царскую столицу следует перенести в Нижний-Новгород[270]. Доводя до сведения царя о мнениях его поклонника, волоскаго воеводы, Пересветов опять заговаривает об освобождении кабальных людей. Тут у него выходит, что кабала придумана была дьяволом, искусившим Адама после изгнания его из рая и взявшим с него «запись». Бог сжалился над Адамом и, искупив его грех своею «волною страстно», извел ого из ада, а запись изодрал. Те, которые записывают теперь людей в работу навеки, угождают дьяволу, губя свою душу. Приведя этот довод от богословия, – верховный довод того времени, – Пересветов опять выдвигает уже знакомый нам аргумент от общественной психологии, подкрепляя его для верности тем же богословским доводом: «которая земля порабощена, въ той землƀ все зло сотворяется: і татба, і разбой, і обида, і всему царству оскуженіе великое, всƀмъ Бога гнƀвятъ, а дьяволу угожаютъ»[271]. Здесь уже совсем ясно, что требовать освобождения холопов побуждала Пересветова боязнь боярского засилия[272]. Которая земля порабощена, в той земле все зло сотворяется. Это совершенно справедливая мысль. Очень важно отметить, что эта совершенно справедливая мысль была хорошо знакома по крайней мере одному, – а, вероятно, и не только одному, – из служилых людей грозного царя Ивана Васильевича. Но не менее полезно отметить и то, что она побуждает Пересветова лишь к требованию уничтожения холопства. Кабала есть только один из многих видов порабощения человека человеком. Однако, Пересветов не спрашивает себя, исчезло ли бы порабощение, а с ним и «все зло» в Московском государстве с уничтожением холопства. Если же и спрашивает, то к требованию уничтожения кабалы прибавляет еще только одно: требование ограничения силы и влияния боярства. Лучшим средством практического осуществления этого требования представляется ему развитие царского самодержавия. Ему и в голову не приходит, что оно само может сделаться источником порабощения страны и всякого зла в ней. В его сочинениях мы никогда не встречаем ни малейшего указания на те желательные границы, которые нужно было бы поставить верховной власти. И с этой стороны он очень невыгодно отличается от своего, уже названного выше, современника, француза Жана Бодэна.
Жан Бодэн тоже убежденный монархист. Но он хочет, чтобы монарх повиновался «законам природы», обеспечивающим «естественную свободу» его подданных[273]. Он различает три вида монархической власти. «Всякая монархия, – говорит он, – есть или вотчинная, или королевская, или тираническая» (Toute monarchie est seigneuriale, ou royale, ou tirannique. P. 272). В королевской монархии глава государства уважает, как уже сказано, естественную свободу своих подданных. А эта свобода выражается между прочим в том, что подданным обеспечивается свобода распоряжаться своим имуществом (propriйtй des biens). Отличительным признаком вотчинной монархии является, по учению Бодэна, отсутствие у подданных свободы распоряжения как своей личностью, так и своим достоянием. Бодэн полагает, что вотчинная монархия «была первой» (т.-е. первой формой политического устройства. Г.П.). Не надо смешивать ее с тиранией. Тиран тот, кто попирает законы с своей стороны, а вотчинный монарх может быть вполне законным государем. Как на пример вотчинной монархии, Бодэн указывает на древнюю Персию, где все принадлежало царю и где все жители были его рабами. С течением времени рабская зависимость подданных от государя смягчается, так что в конце-концов монархия остается вотчинной только по имени. Однако, и теперь она местами еще сохранила действительное существование. Она встречается в Азии, в Эфиопии и даже в Европе: в Турции, в Татарии и в Московии. От внимания Бодэна не ускользнуло то обстоятельство, что подданные московского царя называют себя его холопами (он пишет: хлопами, les chlopes), «т.-е., – поясняет он, – рабами»[274]. По мнению Бодэна, государя боготворят в вотчинной монархии именно потому, что он является там господином как над лицами, так и над имуществом. Будучи рабами своего государя, жители тех стран, в которых существует вотчинная монархия, подвергаются и рабским наказаниям. В Персии цари, предшествовавшие Артаксерксу, имели привычку (avaient acoutumй) наказывать своих подданных, даже самых высокопоставленных, подвергая их, как рабов, телесному наказанию. Артаксеркс впервые постановил, что, подвергал наказанию преступников, их будут раздевать, как раздевали прежде, но сечь будут не их, а только их платье. По его же распоряжению перестали вырывать волосы у преступников, ограничиваясь вырыванием волосков из их шапок[275]. Бодэн видел в этом доказательство того, что с течением времени персидская монархия на деле перестала быть вотчинной. Таким образом, для него телесное наказание подданных было главным внешним признаком вотчинной монархии. Причиной же, вызывавшей существование этого признака, он считал рабскую зависимость подданных от государя, выражавшуюся в том, что они не имели права свободно распоряжаться ни самими собой, ни своим имуществом. Такой взгляд несравненно глубже того ходячего воззрения, согласно которому телесное наказание, применявшееся в восточных деспотиях даже к наиболее высокопоставленным
лицам, – вспомним старую Москву с ее кнутом, батогами и вырыванием бород по волоску, – вызываюсь недостатком «культуры». Бодэн знал, что даже в весьма культурных странах (Греция, Рим) господа подвергали своих рабов телесным наказаниям, между тем как свободные жители гораздо менее культурных стран не допускали и мысли о подобном обращении с ними их государей. Он понимал, что дело тут не в отсутствии «культуры», которое, к тому же, само могло быть только следствием известных общественных отношений, а именно – в этих отношениях, сущность которых заключалась в закрепощении всех общественных сил государству в лице его представителя, государя. Так же хорошо, по-видимому, сознавал он и то, что когда подданные вотчинных монархий обоготворяют своих государей, то это происходит не в силу их некультурности, а в силу их рабского положения, при котором монарх является для них, как бог, единственным источником всех благ[276]. Сам он, – хотя и считал нужным, в интересах теории, напомнить своим читателям, что иное дело вотчинный монарх, а иное дело тиран, – был решительным сторонником «королевской монархии», оставляющей за жителями страны «естественную свободу» распоряжения самими собой и своим имуществом. Это вполне понятно. В учении о государстве Бодэн – идеолог третьего сословия, находящегося на известной стадии своего развития. Стадия эта характеризуется прежде всего тем, что в освободительной борьбе с феодалами названное сословие еще не вполне доверяет своим собственным силам и потому поддерживает короля с его притязаниями на абсолютную власть. Абсолютная власть помогает буржуазии расчистить лежащие на ее историческом пути феодальные препятствия. Поэтому она мирится с нею и даже идеализует ее. Но она мирится с нею и даже идеализует ее лишь в той мере, в какой она помогает ей итти вперед, т.-е. чтобы употребить здесь выражение Бодэна, в какой она остается королевской монархией и не посягает на личную свободу граждан и на их права «истинных собственников» (vrais propriйtaires). Абсолютная власть показалась бы французскому третьему сословию несносным игом, если бы государь вздумал обращаться с имуществом своих подданных и с ними самими так, как обращается вотчинный монарх в своей стране. Такого государя Бодэн непременно отнес бы к числу тиранов. Не общественное сознание определяет собою общественное бытие, а общественное бытие определяет собою общественное сознание. Московским публицистам
XVI века были совершенно недоступны те общественно-политические понятия, которые были выработаны передовыми публицистами тогдашней Франции. Бодэн вполне правильно отнес «Московию» к числу вотчинных монархий. Общественные силы все больше и больше закрепощались в ней государством, глава которого естественно третировал их, – на что обратил внимание еще Бодэн, – как своих холопов. При таком направлении общественного развития публицисты, по той пли по другой причине отстаивавшие царское самодержавие, не могли даже и представить себе таких «законов природы», которые полагали бы ей какие-нибудь пределы в гражданском или экономическом быту. Мы знаем, что Пересветову не только не было чуждо понятие свободы, но он ясно видел причинную связь многих общественных зол с порабощением. Однако в своих практических планах он не шел дальше требования отмены холопства. «Свобода» есть формальное понятие, содержание которого в каждое данное время определяется данными конкретными, – в последнем счете экономическими, – условиями. С точки зрения Пересветова, освободить жителей страны значило уничтожить (»изодрать») кабальные записи. Он не мог, подобно Бодэну, требовать для жителей Московского государства прав «истинных собственников». Он был идеологом той части служилого сословия, судьба которой теснейшим образом связывалась с судьбой поместного землевладения. Поместное же землевладение в своем чистом виде оставляет все права «истинного собственника» за государем, давая помещику лишь право временного пользования землею за его службу. Государь распределяет землю между помещиками за исправное выполнение ими службы, как не очень давнего времени министерство государственных имуществ распределяло у нас землю между крестьянами своего ведомства. В 1556 г. Иван IV обратил внимание на то, что «которые вельможы и всякіе воины многими землями завладали, службою оскудƀша, не противъ государева жалованія и вотчинъ служба ихъ». Поэтому он приказал, – указ его сохранился в летописной передаче, – произвести уравнение: «въ помƀстьяхъ землемƀріе имъ учиниша, комуждо что достойно, такъ устроиша, преизлишки же неимущимъ»[277]. Это был настоящий «черный передел» в помещичьей среде. Его невозможно было бы произвести, если бы землевладельцы имели права, «истинных собственников». А между тем в тогдашнем экономическом положении Московского государства подобные переделы были необходимы в интересах «службы» и полезны для самих помещиков. Вот почему теоретик помещичьего класса Пересветов не мог бы допустить, что они противоречат «законам природы», как это, наверно, сказал бы теоретик третьего сословия Бодэн. Больше того, Пересветову такие переделы, – а, стало быть, и перенесение на государя всех прав «истинного собственника» земли, – должны были казаться необходимым условием обеспечения, т.-е. фактической свободы, «воинников». Как я заметил выше, возможно, что, проведя многие годы в странах, в которых общественно-экономическое развитие шло иначе, нежели в Москве, он не очень ясно сознавал особенности московского экономического быта. Но, утвердившись на точке зрения указанной части московского
служилого сословия, он неизбежно должен был усвоить себе все то понятие о природе монархической власти, которое подсказывалось этими особенностями. Он не пошел в своем требовании свободы дальше требования отмены холопства. А когда он искал образца для своего политического идеала, тогда его взор естественно обратился не на Запад, а на Восток, к одной из стран, справедливо названных Бодэном вотчинными монархиями и отличавшихся рабской зависимостью жителей от своих государей. У Бодэна есть чрезвычайно поучительная ссылка на Плутархово жизнеописание Фемистокла. Артабан, один из начальников царских телохранителей при персидском дворе, говорит в этом жизнеописании Фемистоклу: «Вы, греки, больше всего дорожите свободой и равенством. А по-нашему, лучше всех наших многочисленных законов тот, который повелевает нам чтить нашего царя и поклоняться ему, как Богу». Жители Московского государства тоже считали себя обязанными, не только за страх, но и за совесть, чтить своего государя и поклоняться ему как земному богу. Одинаковые причины всегда производят одинаковые следствия. По мере того, как историческое развитие раздвигало пределы власти московского государя до той широты, какая свойственна была соответствующей власти в восточных «вотчинных монархиях», московская общественная мысль всe более и более приобретала восточную складку. Ниже мы увидим, что в своих разговорах с поляками в эпоху Смуты московские люди рассуждали совершенно так, как очень задолго до того рассуждал Артабан в своем разговоре с Фемистоклом.
Глава III Движение общественной мысли под влиянием борьбы боярства с духовенством
Пересветов является перед нами теоретиком той части московского служилого сословия, которая существенно заинтересована была в расширении царского нрава распоряжаться имуществом, – прежде всего, конечно, недвижимым, земельным, имуществом, – своих подданных. Совершенно понятно, что у него не было ни малейшей склонности задумываться о каких бы то ни было «законах природы», полагающих пределы царской власти. Но возникает вопрос: не задумывалась ли о таких законах та высшая часть служилого сословия, которая, обладая более или менее обширными вотчинами, могла сильно пострадать и скоро действительно пострадала от «черного передела» в пользу «воинников». На этот вопрос приходится ответить утвердительно: да, она думала о них. Но замечательно, что и она никогда не приходила к мысли об ограничении царской власти посредством точно определенных норм закона. Она не столько требовала, сколько советовала, и притом советы ее касались не государственного устройства, а государственного управления. С этой стороны представляет немалый интерес литературное произведение, озаглавленное «Беседа преподобных Сергия и Германа, валаамских чудотворцев» и, повидимому, относящееся ко второй половине 50-х годов XVI в.[278]. Преподобные Сергий и Герман, от имени которых написана вся беседа, настоятельно рекомендуют «отцамъ и братіямъ», т.-е. монахам, полное подчинение царю. Они говорят: «Молимъ васъ, возлюбленніи отцы и драгая братія, покоряйтеся благовƀрнымъ царемъ и великимъ княземъ и въ благовƀріи кияземъ русскимъ радƀйте и во всемъ имъ прямите, и Бога за нихъ молите, аки сами за себя и паче себя, да таковыя ради молитвы и мы помилованы будемъ. И добра государемъ своимъ во всемъ хотите и за ихъ достоитъ животомъ своимъ помирати и главы покладати, аки за православную вƀру свою, да ни власъ главъ нашихъ не погибнетъ за таковую къ Богу добродƀтель»[279]. Мы сейчас увидим, почему автор «Бесƀды» заставляет названных святых обращаться именно к отцам и братиям, т.-е. к монахам, и почему он счел нужным напомнить им о необходимости полного подчинения. Мы убедимся
тогда, что это напоминание обязано своим происхождением одному из знакомых уже нам противоречий московской общественной жизни. Теперь же следует указать на то, что, коснувшись царской власти, автор «бесƀды» изображает ее как власть, которая должна быть неограниченной. «Богомъ бо вся свыше предана есть помазаннику царю и великому Богомъ избранному князю. Благовƀрнымъ княземъ русскимъ свыше всƀхъ дана есть Богомъ царю власть надо всƀми»[280]. К такому определению размеров царской власти едва ли нашел бы что-нибудь прибавить сам Пересветов или даже собеседник Фемистокла, персидский служилый человек Артабан. И вполне согласно с этим учением о беспредельности царской власти то убеждение автора «Бесƀды», что на царе лежит верховная обязанность о благочестии: «Царю и великому князю, – совƀтует он, – уставити по монастырямъ и вездƀ своею царскою смиренною грозою, брадъ и усовъ не брƀти, не торшити и сану своего ни чƀмъ нe вредити, крестное знаменіе на лицƀ своемъ сполна воображати, каятися говƀти по вся годы всякому человƀку вездƀ, исповƀдатися Господеви и отцемъ духовнымъ отъ двоюнадесяте лƀтъ мужеска полу и женска. О томъ царю за весь міръ крƀпко пещися паствы и войска своего, да не за всƀхъ станетъ ко отвƀту передъ Вышнимъ Царемъ»[281]. Царь же обязан заботиться и об исправлении церковных книг[282]. Автор решительно отвергает то мнение, – как видно, тоже возникавшее в Московском государстве XVI века, – что бог сотворил человека «самовольна» или «самовластна»: «аще бы самовластна человƀка сотворилъ Богъ на сей свƀтъ, и онъ бы не уставилъ царей и великихъ князей и прочихъ властей и не раздƀлилъ бы орды отъ орды»[283] (sic). Подобно Пересветову, автор «Бесƀды» считает необходимой царскую грозу. Если бы не царская гроза, то люди перестали бы поститься, каяться и уважать священников[284]. Но между тем как Пересветов стремится направить царскую грозу преимущественно на «велможъ», автор «Бесƀды» находит, что царю надлежит всегда советоваться с ними, с ненавистными Пересветову «велможами». Преподобные Сергий и Герман прямо говорят у него: «А царемъ съ боляры и съ ближними пріятели о всемъ совƀтовати накрƀпко». По всему видно, что он если не сам принадлежал к «велможамъ», то безраздельно стоял на их точке зрения. Как мирской человек того времени, он отнюдь не отрицал важного значения «воинников». Но он знал и помнил, что их поведение часто бывает не совсем «христолюбивым», и нашел нужным прочитать им от имени святых угодников такое наставление: «Невƀрные тщатся въ ратƀхъ на убійство, и на грабленiе, и на блудъ, и на всякую нечистоту и злобу своими храбростьми и тƀмъ хвалятся. A вƀрным воиномъ подобаетъ въ войнахъ быти съ царскаго повелƀнія и стояти противу враговъ креста Христова крƀпко и неподвижно; а къ своевƀрнымъ и въ домƀх ихъ быти кротко, щедро и милостиво, и ихъ не бити, ниже мучити, и грабленія не творити, женъ и дƀвицъ не сквернити, черницъ и вдовицъ и прочихъ
сиротъ и всƀхъ православныхъ христіанъ ничƀмъ не вредити, да отъ ихъ сдезъ и воздыханія войскомъ всƀмъ злƀ не постражутъ»[285]. Автор «Бесƀды» пространно доказывает, что «всƀмъ владƀти» надлежит царю и поставленным царем мирским властям. Он тоже как за «вотчинную монархию». Но он советует царю щадить платежные силы страны. «Подобаетъ и царемъ изъ міру съ пощадою собрати всякіе доходы и дƀла дƀлати милосердно, а не гнƀвно, ни по наносу»[286]. При всем своем огромном уважении к власти самодержца автор «Бесƀды» заставляет валаамских чудотворцев высказывать большие опасения по части царского «небрежения» в управлении страною и царской «простоты» (т.-е., скажем,... недогадливости). Небрежение и простота обнаруживаются, по мнению чудотворцев, главным образом в том, что цари перестают слушать своих естественных советников (т.-е. бояр) и подпадают под влияние черного духовенства, которое пользуется этим для своего обогащения. «А царю достоитъ не простотовати, совƀтники совƀтъ совƀщевати о всяком дƀлƀ... Много множество безъ числа царіе спроста простотою своею отвращаютъ иноковъ отъ душевнаго спасенія и вводятъ иноковъ въ великую и безконечную погибель, по иноческому къ царю ложному челобитью»[287]. Не грешащий простотою царь управляет своим царством через посредство своих воевод, а не через посредство иноков: «аще гдƀ въ мірƀ будетъ власть иноческая,а не царскихъ воеводъ, ту милости Божія нƀсть»[288]. Валаамские чудотворцы выступают в «Бесƀдƀ» с самыми резкими обличениями иноков. Святые угодники убегали от мира и не стремились к богатству, «а мы окаянніи многогрƀшніи иноцы вылгали у всемилостиваго у небеснаго Владыки, таковый нося великій образъ, а нареклися иноцы, а иноцы есмы, да только не на иноческую добродƀтель, но на всякую злобу иноки, а не на добродƀтель»[289]. Жадность привела иноков к «новой ереси», заключающейся в том ошибочном мнении, что им позволительно иметь земельные имущества. «Отнюдь то есть инокомъ погибель. Тƀми неподобными статьями лукавый бƀсъ родъ христіанскій во иноческомъ образƀ царскою простотою и великихъ князей жалованіемъ отвращаютъ иноковъ оть душевнаго спасенія и вводятъ их въ великую и въ безконечную погибель, потому что таковыя власти даны міра сего свыше отъ Бога царемъ и великимъ княземъ и мірскимъ властелемъ, а не инокомъ»[290]. Иноки изображаются въ «Бесƀдƀ» людьми способными на всякіе хитрости и даже подлоги. Чтобы добиться своих цƀлей, они готовы сознательно искажать священное писание. «А сего царіе не вƀдаютъ и не внимаютъ, что мнози книжницы во иноцƀхъ по дьявольскому наносному умышленію, изъ святыхъ божественныхъ книгъ и изъ преподобныхъ житія выписываютъ, и выкрадываютъ изъ книгъ подлинное преподобныхъ и святыхъ отець писаніе и на тоже мƀсто в тƀжъ книги приписываютъ лучшая и полƀзная себе, носятъ на соборы во свидƀтельство, будьтося подлинное
святыхъ отецъ писаніе»[291]. Это мƀсто показываетъ, что автора «Бесƀды» не такъ-то легко было запугать доводами «отъ Писанія». Для полноты эффекта он пугает читателя «послƀднимъ временемъ»: «при послƀднемъ времени прельстятъ иноки лжами царей и великихъ князей и прочихъ властей, и испосулятъ ближнихъ всƀхъ, аки прежніе старцы с книжники на распятіе, Iуда на преданіе Христа. Такоже при послƀднемъ времени умышляютъ иноки съ книжники прелести своими, начнутъ лжами красти царей и великихъ князей. Царіе же не внимаютъ сего и слушаютъ ихъ обавниковъ, которыхъ испосулятъ они»[292]. Как нам уже известно, в до-петровской Руси довод от «послƀдняго времени» является одним из самых внушительных богословских доводов. Не удивительно, что нашему автору захотелось обратить его против столь неприятных ему «старцев». Однако, читатель сильно ошибся бы, если бы подумал, что, рисуя картину «последнего времени», автор «Бесƀды» валаамских чудотворцев оперировал лишь с помощью своей фантазии. Материалом для этой картины послужили ему данные, полученные наблюдением того, что происходило в действительной жизни. Так, например, автор говорит, что за иноческие грехи и за царскую простоту при «последнем времени» произойдет между прочим следующее: «Начнутъ люди напрасными бедами спасатися, и по мƀстамъ за таковые грƀхи начнутъ быти глады и морове частые, и многіе всякіе трусы и потопы, и междоусобные брани и войны, и всяко въ мірƀ начнутъ гинути грады и стƀснятся, и смятенія будутъ во царствахъ велики и ужасти, и будутъ никимъ гоними волости и села пустƀютъ дома христіанскіе, люди начнутъ всяко убывати, и земля начнетъ пространнƀе быти, а людей будетъ менше, и тƀмъ досталнымъ людемъ будетъ на пространной земли жити негдƀ»[293]. Указанное выше запустение центральных местностей Московского государства привело именно к тому, что хотя московская земля начала «пространнƀе быти», но так как рабочих рук стало меньше и производительные силы населения ослабели, то «досталные люди» терпели на пространной земле гораздо большую нужду, чем прежде. Это обстоятельство не укрылось от внимания автора «Бесƀды, и он яркими красками изобразил его в своей картине «последнего времени». Другие, не менее выдающиеся, черты этой картины заставляют думать, что нелишенные проницательности московские люди той эпохи уже предвидели наступление Смуты. Едва ли простым риторическим украшением является в «Беседе» предсказание гибели градов, междоусобной брани и войн. И также вряд ли простою склонностью к риторике подсказаны нашему автору вот эти строки: «царіе на своихъ степенƀхъ царскихъ не возмогутъ держатися и почасту премƀнятися за свою царскую простоту и за иноческіе грƀхи и за мірское невоздержаніе»[294]. Известно, что англичанин Флетчер, посетивший Московское государство в царствование Федора Ивановича, предсказал наступление Смуты. Вполне позволительно думать,
что он сделал это свое предсказание, основываясь на слышанном им от московских людей, входивших в соприкосновение с ним. А нарисованная автором «Бесƀды валаамских чудотворцев» картина «последнего времени» наводит на ту мысль, что более или менее сознательное ожидание «междоусобной брани» возникало уже при Иване IV. Это тем более замечательно, что автору «Бесƀды валаамских чудотворцев» еще нельзя было предвидеть прекращение династии. Итак, под диктовку человека, несомненно, вышедшего из мирской среды, валаамские чудотворцы в своей «Беседе» начертали целую программу, содержание которой может быть изложено приблизительно так: I. Царю принадлежит неограниченная власть в государстве. II. Он управляет государством, советуясь с боярами и не подчиняясь влиянию иноков, этих «непогребенных мертвецов». III. Он щадит платежные силы и держит в узде воинников, не позволяя им притеснять мирных жителей. IV. Монастыри перестают владеть населенными землями. Мы видим, что благоприятная для «велможъ» программа эта неблагоприятна для духовенства. Она направлена против него как в своей экономической, так и в своей политической части. И она дополняет то, что сказано было мною в первой главе о взаимной борьбе светской и духовной власти в Московской Руси. Московскому государю нужны были земли; ему нужно было очень много земель. Чтобы увеличить свой земельный фонд, московское правительство еще в лице Ивана III подняло вопрос о секуляризации духовных имений. Параллельно с этим оно постепенно, но неуклонно суживало права вотчинных землевладельцев. Его идеалом в этой области было полное превращение вотчин в поместья. Для такого превращения очень много сделал грозный внук Ивана III, осуществивший программу Пересветова с помощью своей опричнины и поставивший в ней точки над «і» именно там, где от точек-то и зависело все ее содержание, т.-е. там, где дело касалось отношения неограниченного царя к имуществу его подданных. По словам проф. С.Ф.Платонова, «опричнина сокрушила землевладений знати в том его виде, как оно существовало из-старины. Посредством принудительной и систематически произведенной мены земель она уничтожила старые связи удельных княжат с их родовыми вотчинами везде, где считала это необходимым, и раскидала подозрительных в глазах Грозного княжат по разным местам государства, преимущественно по его окраинам, где они превратились в рядовых служилых землевладельцев»[295]. Когда программа литовского выходца была осуществлена и надлежащим образом дополнена «прирожденным» московским государем применительно к московским экономическим условиям: когда совершилась настоящая революция в области имущественных отношений служилого класса, политическое значение боярства было, – по замечанию того же проф. Платонова, – бесповоротно уничтожено. Но пока революция еще только подготовлялась; пока жизнь еще только создавала, одну за другой, конкретные основы будущей программы Пересветова;
пока еще не было бесповоротно уничтожено политическое значение родовитого боярства, – служилые московские «княжата» стремились отстоять свое существование, отвратить от себя надвигавшуюся грозу и направить ее в другую сторону. Но они были людьми практики, а не теории. Им очень хорошо известно было хозяйственное положение Московского государства. Они прекрасно звали, что увеличение земельного фонда действительно было при тогдашних условиях одной из самых настоятельных государственных нужд. Поэтому они охотно откликнулись на проповедь «заволжских старцев», т.-е. той, – весьма мало впрочем влиятельной в своей среде, – части монашества, которая, держась точки зрения религиозного аскетизма, находила, что монастыри не должны владеть населенными имениями. Секуляризация многочисленных и весьма обширных монастырских имений в значительной степени увеличила бы земельный фонд государства и тем самым отдалила бы опасность превращения светских вотчин в поместья. Этим достаточно об᾽ясняется вся экономическая сторона программы, написанной от имени валаамских чудотворцев публицистом, отстаивавшим боярские интересы. Что касается политической стороны этой программы, то здесь надо иметь в виду следующее. После того, как московское правительство, натолкнувшись на решительное сопротивление духовенства в вопросе об отобрании монастырских вотчин, пошло на сделку и оставило их в руках «непогребенных мертвецов», ограничившись распространением своего контроля на монастырские земли, духовная власть надолго, почти до времен патриарха Никона, рассталась с оппозиционным настроением и выступила в роли деятельной помощницы московских самодержцев. Защитники монастырских владений, Иосиф Волоцкой и его ученики, «осифляне», еще так недавно склонявшиеся к критике действий светской власти, сделались теперь убежденными пропагандистами абсолютизма. В этом отношении они сходились с идеологами дворянства, которое в своей борьбе с боярством старалось опереться на неограниченную власть царя. Ничем неограниченная царская власть была необходима для того, чтобы совершить указанную выше аграрную революцию, которая была так благоприятна для дворянских и так неблагоприятна для боярских интересов. В том, что касалось этой революции, «осифляне» были целиком на стороне царя и дворянства. Как бояре не имели ничего против секуляризации монастырских земель, так и «осифлянская» часть духовенства, – т.-е. наибольшая часть его, одна только и обладавшая сколько-нибудь серьезным практическим значением, – ровно ничего не имела против бесцеремонного обращения царской власти с вотчинами княжат. Неудивительно поэтому, что бояре боялись влияния «осифлян» на государя. Уже по своему положению земных богов, обязанных отстаивать чистоту веры в бога небесного, московские великие князья и цари должны были гораздо чаще соприкасаться с влиятельными духовными лицами, нежели с представителями нисшей части служилого сословия. Пересветов писал во второй своей челобитной царю: «А выƀзду моему, государь, одиннадцать лƀтъ. И яз тебя, государя благовƀрнаго царя, доступити не могу»[296]. Несравненно
легче было «доступити государя благовƀрнаго царя» какому-нибудь московскому архимандриту или епископу, не говоря уже о царском духовникƀ. Да и не только московскому. Заходя несколько вперед в своем изложении, я напомню здесь известный рассказ князя Курбского о свидании Ивана IV с монахом Вассианом Топорковым в отдаленном Кирилло-Белозерском монастыре. Царь спросил Вассиана: «како бы моглъ добрƀ царствовати и великихъ и сильныхъ своихъ в послушествƀ имƀти?» На это старец «по древней своей обыкновенной злости» хитро отвечал: «аще хощеши самодержцемъ быти, не держи себƀ совƀтника ни единаго мудрейшаго собя: нанеже сам еси всех лучше; тако будеши тверд на царствƀ, и все имƀти будеши в рукахъ своихъ. Аще будеши имƀть мудрƀйшихъ близу себя, по нуждƀ будеши послушенъ имъ»[297]. Курбский был убежден, что этот «силлогизм сатанинский», как называет он ответ Топоркова, пришелся по душе царю и имел большое влияние на его внутреннюю политику. В виду всего этого становятся совершенно понятными пространные рассуждения валаамских чудотворцев о том, как вредны для страны совещания «простоватых» царей с «непогребенными мертвецами». Влияние на царя «непогребенных мертвецов», – конечно, «осифлянского» направления, – в корне подрывало влияние на него родовитого боярства. Стало быть, не спроста автор «Беседы валаамских чудотворцев» грозил «последним временем» такому царю, который захотел бы совещаться с монахами. Это, надеюсь, не требует дальнейших пояснений. Но вот что надо отметить еще в разбираемой «Беседе». Преподобные Сергий и Герман обращают внимание на тяжелое положение монастырских трудников, т.-е. крестьян: «нынƀ мы окаянніи...подъ собою имƀемъ волости со христіаны и надъ ними властвуешь немилосердство и злобу показуемъ и всякую неправду»[298]. Валаамские чудотворцы напоминают, что иноки должны были бы любить всех трудников и бельцов и прочих православных, между тем как на самом деле они жестоко эксплуатируют подчиненных им земледельцев. Трудники «на насъ иноковъ по вся дни тружаются безъ выбору и насъ иноковъ питаютъ своими вольными и невольными трудами, во всемъ передъ нами послушание творятъ. А мы окаянніи по діаволю наученію таковыхъ Богоизбранныхъ лишаемъ брашна своего, аки невƀрныхъ иноземцевъ и прочихъ поганыхъ. О мы безумніи! камо ся дƀнемъ и како противу ихъ станемъ отвƀщати предъ страшнымъ и праведнымъ судіею» и т. д.[299]. Как факт из истории русской общественной мысли, это страстное воззвание преподобных Сергия и Германа означает, что автор «Беседы», обоими ногами стоявший на боярской точке зрения, сознавал и осуждал тяжелое положение монастырского крестьянства. Ему совершенно ясно, что иноки монастырей, обладающих вотчинами, живут эксплуатацией крестьянства, как сказали бы мы теперь. И он не стесняется высказать это. Противоречие ведет вперед. В обществе, разделенном на классы, – или на сословия, это в данном случае безразлично, – классовая борьба открывает людям глаза на такие истины, которые без нее остались бы недоступными для них.
Правда, когда такие истины доходят до сознания людей привилегированного положения, то они понимаются ими довольно односторонне. Валаамские чудотворцы оплакивали тяжелое положение монастырских крестьян. Однако, они забыли спросить себя, каково живется крестьянам в боярских вотчинах. Это произошло оттого, что автор «Беседы» отстаивал, как мы знаем, боярские интересы. Много времени спустя английские лорды жестоко упрекали английских фабрикантов в беспощадной эксплуатации промышленного пролетариата. Но добрые лорды тоже забывали спросить себя: «а какую жизнь ведут рабочие в наших собственных имениях?» Этот вопрос поставили за них фабриканты. Они услужливо предприняли целое исследование, убедительно показавшее, что положение английских рабочих было в сельских округах ничуть не лучше, нежели в промышленных. Насколько мне известно, защищавшие монастырские владения «осифляне» не догадались отплатить такою же любезностью московским боярам XVI в. И это очень жаль! В некоторых своих списках «Беседа валаамских чудотворцев» сопровождается интересным документом, озаглавленным: «Ино сказание тоежъ бесƀды, отъ видƀнія извƀть преподобныхъ игуменовъ Сергія и Германа Валаамскихъ начальниковъ властвующему князю великаго Новограда, посадникамъ и сущимъ Новгородцамъ съ ними». В действительности этот документ вовсе не представляет собою разновидности «тоежъ бесƀды» и принадлежит, по всей видимости, другому автору. Но это делает его тем более интересным. По мнению автора «Иного сказания», христолюбивым царям русской земли подобает укреплять своих воевод и свое войско и во все стороны распространять свое государство. Но это дело не может быть сделано силами одной верховной власти. Для него необходимо сочетание всех общественных сил. «И на такое дƀло благое достоитъ святƀйшимъ вселенскимъ патріархомъ и православнымъ благочестивымъ «папамъ» (?), преосвященнымъ митрополитамъ и всƀмъ священнымъ архіепископомъ и епископомъ и преподобнымъ архимандритомъ и игуменомъ и всему священническому и иноческому чину благословити царей и великихъ князей русскихъ московскихъ на единомысленный вселенскій совƀтъ». Такой совет надлежит царю «воздвигнути отъ всƀхъ градовъ своихъ и отъ уƀздовъ градовъ тƀхъ, безо величества и безъ высокоумія гордости, христоподобною смиренной мудростію», и держать при себе погодно. Другими словами, автор требует созвания земского собора с широким и действительным представительством от городов и уездов. Это весьма ясное само по себе требование показалось странным и неясным покойному А.Н.Пыпину только по той причине, что, советуя созвать собор, автор «Иного сказания» рекомендует царю «распросити» его о посте и покаянии: «и на всякъ день ихъ добрƀ распросити царю самому о всегоднемъ посту и о каяніи міра всего и про всякое дƀло міра сего»[300]. A.H.Пыпин замечает: «Выходит так, что вселенский собор нужен для наблюдения того, держатся ли посты и исповедь, и затем уже для других дел сего мира»[301].
Но что же тут удивительного? Мы уже знаем, что, по понятиям московских публицистов XVI в., – и притом всех без различия партий, – царь был верховным охранителем благочестия в стране. Читатель не забыл, надеюсь, как и кем сделаны были первые шаги для учреждения патриаршества в России. Когда царю Федору Ивановичу, религиозная благонамеренность которого стоит вне всякого сомнения (известно, что отец насмешливо называл его пономарем), пришла мысль учредить патриаршество, он посоветовался об этом со своей супругою и с боярами и, только заручившись их одобрением, обратился к духовенству, которому оставалось лишь привести в исполнение план, уже обдуманный царем с царицей и боярами. При таком положении дел понятно, что автор «Иного сказания» предоставляет светской власти верховную заботу о постах и исповеди. Далее. Мы видели, что даже Пересветов, для которого правда была важнее веры, любил ставить доводы от религии во главу своей аргументации. Вот почему вполне естественно, что автор «Иного сказания» рекомендует «вселенскому собору» прежде всего внимательное отношение к вопросам церковного благочестия. Это было как нельзя более согласно с привычками и образом мысли московских людей. С другой стороны, очень мало распространен был тогда, во-первых, тот взгляд, что забота об охранении благочестия принадлежит не только царю с боярами, но также и народным представителям, а во-вторых, тот, что с теми же народными представителями царь «на всякъ день» должен совещаться также «о всякомъ дƀлƀ міра сего». Взгляд этот составляет чрезвычайно интересную особенность «Иного сказания», и как ни запутанно выражается его автор, – А.Н.Пыпин недаром говорит об его «плохой грамотности», – он все-таки представляет собою замечательное явление в тогдашней нашей публицистике. А.Н.Пыпин не решается сказать с уверенностью, что автор «Беседы валаамских чудотворцев» был сознательным приверженцем боярской партии. «Могло быть, – говорит он, – что, выставляя князей и бояр естественными советниками царя в правлении, он только повторял традиционное представление о царском правлении, – главное было для него в том, чтобы в правление не мешались «непогребенные мертвецы»[302]. Конечно, это могло быть. Но сам же А.Н.Пыпин указывает на то, что автор «Беседы» был не монахом, a «мірскимъ человƀкомъ», живо затронутым тогдашними толками по вопросу о монастырских имениях, о вмешательстве иерархии в государственные дела, об упадке боярского влияния[303]. А мирской о мирском и думает. И если даже допустить, что автор «Беседы» больше всего опасался вмешательства «непогребенных мертвецов» в дела государственного управления, то и тогда у нас не будет права сомневаться в сознательном отношении автора «Беседы» к боярским притязаниям: иноки «осифлянского» направления могли, как уже сказано, своим влиянием на светскую власть сильно повредить интересам боярства.
Глава IV Движение общественной мысли под влиянием борьбы царя с боярством
Заводя речь о борьбе московских государей с боярством, необходимо сейчас же сделать ту существенную оговорку, что в этой борьбе бояре держались оборонительной, а не наступательной тактики. Знакомые уже нам особенности экономического развития Московского государства сделали бояр неспособными не только вырывать у государей новые привилегии, но и отстаивать старые. Московское боярство не выставляло определенных политических требований. Во время детства Ивана IV власть фактически была в руках крупных боярских родов. Но они воспользовались ею для взаимной борьбы и для взаимных счетов, а не для усиления своей политической позиции. Когда Иван IV пришел в возраст и дал им почувствовать свои деспотические наклонности, они тоже показали себя недоросшими до мысли об юридическом ограничении верховной власти. Они вполне готовы были удовольствоваться фактическим ограничением ее посредством личного влияния на самодержца со стороны ею советников. Да и с этой стороны они не обнаружили аристократической исключительности. Энергичный и талантливый идеолог московского боярства XVI века, князь Андрей Михайлович Курбский с величайшей похвалою отзывается в своей «Истории князя великого московского» о том периоде царствования Ивана IV, когда он правил государством согласно указаниям «избранной рады». Но ведь рада эта состояла не из одних бояр. Если в нее входил сам кн. А.М.Курбский, то в нее же входил и митрополит Макарий, и поп Сильвестр, и мелкий дворянин Алексей Адашев. Нам уже известно из «Беседы валаамских чудотворцев», как опасались бояре вмешательства духовенства в дела государственного управления. Знаем мы и то, что в XVI веке многие существенные интересы родовитого боярства были прямо противоположны не менее существенным интересам мелкого дворянства. Однако, Курбский ни мало не осуждает участия в «избранной раде» попа Сильвестра и дворянина Адашева. Совершенно наоборот. Он не находит достаточно ярких слов для изображения благотворности их влияния на царя. Сообщая о советниках, привлеченных Сильвестром и Адашевым к управлению государством, он тоже не показывает себя исключительным сторонником боярского влияния. В его глазах важнее всего то, что советники были «мужами разумными и совершенными... такожъ предобрыми и храбрыми... въ военныхъ и земскихъ вещахъ по всему искусными». Он признает, что от «избранной рады» зависело все управление государством, но в своей характеристике
ее деятельности он с похвалою выдвигает на вид ее готовность наградить всякого служилого человека, показавшего усердие и талант. Он пишет: «И аще кто явится мужественнымъ въ битвахъ и окровитъ руку въ крови вражьей, сего дарованьми почитано, яко движными вещи, так и недвижными. Нƀкоторые жъ оть нихъ, искуснƀйшіе, того ради и на вышнія степени возводились»[304]. Награда сообразуется только с заслугой. О родовитости награждаемого нет и речи. Это вполне одобрил бы сам Пересветов. Мало того. В своих письмах к Курбскому Иван говорит об Адашеве: «собакƀ Алексƀю вашему начальнику» и т. д.[305]. Иногда «начальником» он называет также и попа Сильвестра. Против этого Курбский ровно ничего но возражает в своих ответах. Это дает повод думать, что преобладающую роль в «избранной раде» действительно играли люди, не принадлежавшие к боярскому кругу. А все это вместе взятое означает, что мы попали бы в большую ошибку, если бы представили себе названную раду органом исключительного боярского влияния. Нет, время ее господства в управлении государством было временем компромисса между боярством, духовенством и дворянством[306]. Боярству такой компромисс был выгоден, так как он по крайней мере отсрачивал наступательный против него союз духовенства и дворянства с царем, уже рано обнаружившим свое нерасположение к боярам. С другой стороны, мыслившие представители духовенства и дворянства могли находить полезным союз свой с представителями боярства для вразумления Ивана, который тогда уже показал себя диким и взбалмошным не только в обращении с боярами[307]. Оставляя в стороне едва ли разрешимый теперь вопрос о том, какими именно путями достигла «избранная рада» своего влияния на молодого царя, нельзя, кажется, не признать, что оно было в течение некоторого времени почти безграничным. Мы видим это как из «Истории» Курбского, так и из писем Ивана. В своем первом ответе Курбскому Грозный говорит, что во время похода на Казань его «аки плƀнника всадивъ въ судно, везяху съ малƀйшими людьми сквозƀ безбожную и невƀрную землю»[308]. Больше того. Иван утверждает, что он был лишен своей воли даже в мелочах,
касавшихся «обуща и спанья». Короче: «вся не по своей волƀ бяху, но по ихъ хотƀнію творяхуся; намъ же аки младенцемъ пребывающимъ»[309]. Если правда то, что своенравный и распущенный царь в течение нескольких лет подчинялся такому режиму, то мы, может быть, имеем перед собою интересный случай гипнотического влияния. Но влияние это мало-по-малу ослабело. А тот компромисс, которому он шел на пользу, уступил место новому обострению взаимной классовой борьбы в московском обществе. По рассказу Курбского о встрече Ивана с Вассианом Топорковым выходит, что компромисс нарушен был происками «осифлянского» духовенства. Но он и но мог быть прочным по известным уже нам историческим условиям того времени. Московское государство все более и более превращалось в вотчинную монархию восточного типа, не потому, что этого хотел тот или другой государь, тот или другой, светский или духовный, советник того или другого государя. Напротив, государи и их советники потому и хотели превратить Московское государство в вотчинную монархию, т.-е. распространить власть монарха не только на лиц, но и на все их имущество, что такая политика предписывалась историческими условиями хозяйственного развития страны. Компромисс между боярством, дворянством и духовенством не мог устранить эти условия. И точно так же не мог он привести к тому, чтобы превращение вотчин в поместья, так резко противоречившее интересам бояр, перестало быть весьма выгодным для дворянства. Та среда, настроение которой выразилось в сочинениях Пересветова, продолжала, конечно, существовать и тогда, когда заключен был компромисс. Ее стремления должны были рано или поздно дать себя почувствовать. Когда Иван освободился от гипнотического влияния «избранной рады», он пошел как-раз в том направлении, какое указано было в сочинениях Пересветова. Он вполне усвоил себе программу этого последнего; но только он наполнил ее гораздо более конкретным содержанием, совершив с помощью своих опричных «воинников» вышеуказанный земельный переворот и проявив при этом такую безудержную жестокость, такое дикое самодурство, о каких вовсе не мечтал Пересветов, рисуя образ своего жестокого, но мудрого Махмет-салтана. Когда компромисс был нарушен, царю, опиравшемуся на дворянство и на «осифлянское» духовенство, выпала на долю роль нападающего, а боярству оставалось только защищаться. Вот почему боярский публицист Курбский в своей полемике с Грозным никогда не покидает оборонительной позиции. Но так как предыдущая история Московского государства, вследствие слабости общественной дифференциации, не только не выработала юридических норм, которые определяли бы права отдельных классов, но и не вызвала ни в одном из них сознательного стремления к созданию таких норм, то Курбский заимствует свои доводы не столько из области политики, сколько из области морали, подкрепляя их ссылками на св. писание. Он не пред᾽являет конституционных требований; его взор, – подобно взору автора «Беседы валаамских чудотворцев», – не простирается дальше системы управления государством.
Его первое письмо к Ивану, – так художественно воспроизведенное гр. Толстым в стихотворении «Василий Шибанов», – содержит в себе почти одни только жалобы на жестокое обращение царя с боярами. «Почто, царю! сильныхъ во Израили побилъ еси? и воеводъ, отъ Бога данныхъ ти, различнымъ смертемъ предалъ еси? и побƀдоносную, святую кровь ихъ во церквахъ Божіихъ, во владыческихъ торжествахъ, проліялъ еси? и мученическими ихъ кровьми праги церковные обагрилъ еси?.. Что провинили пред тобою, о царю, и чимъ прогнƀвали тя христіанскіе предстатели? Не прегордыя ли царства разорили и подручныхъ во всемъ тобƀ сотворили, мужествомъ храбрости ихъ, у них же прежде въ работƀ быта, праотцы наши? Не пратвердые ли грады Германскіетщаніемъ разума ихъ от Бога тобƀ даны бысть? Сія ли намъ бƀднымъ воздалъ еси, всеродно погубляя насъ?»[310]. Как слаба оборонительная позиция опального князя, видно из того, что он может погрозить жестокому царю лишь возмездием на том свете. «Или безсмертенъ, царю! мнишись? Или в небытную ересь прельщенъ, аки не хотя уже предстати неумытному Судіи, богоначальному Iисусу, хотящему судити вселеннƀй въ правду, паче же прегордымъ мучителемъ, и не обинуяся истязати ихъ... яко же словеса глаголютъ? Онъ есть – Христосъ мой, сƀдящій на престолƀ херувимскомъ, одесную Силы владычествія во превысокихъ – судитель между тобою и мною»[311]. Когда польские и литовские магнаты были очень недовольны своим королем, они грозили ему «рокошемъ», а не судебным разбирательством на том свете. Но их общественное положение было совсем другое, чем положение московских бояр. Курбский чувствовал, что преследование, обрушившееся на родовитых бояр, имело свою экономическую основу. В своей «Истории князя великого московского» он, говоря о преследовании Иваном князей Прозоровских и Ушатых, прибавляет: «Понеже имƀли отчины великія; мню негли (вƀроятно Г.П.) изъ того ихъ погубилъ[312]. В своем «кратком отвƀщаніи на зƀло широкую епистолію» Ивана Курбский упрекает царя в том, что он отнял у бояр все то, чего не успели «разграбить» его отец и дƀд, все «движимыя стяжанія и недвижимыя»[313]. Упрек в отнятии у бояр их «стяжаній» сопровождается у Курбского напоминанием Ивану о том, что истребленные и ограбленные им «княжата» были одного с ним племени, происходя «отъ роду великаго Владиміра»[314]. Это напоминание показывает, что спор Курбского с Иваном был не только спором служилого человека со своим государем. В известной мере он являлся также спором двух ветвей одного и того же «рода великаго Владиміра». Иначе сказать: в лице Курбского говорил не только недовольный «вельможа»; в его лице говорил также, – а, может быть, и еще того больше? – один из потомков ярославских князей, обиженный одним из сильных князей московских[315]. А это значит, что стремления подобных
ему «княжат» продолжали иметь двойственный характер, будучи в значительной степени определяемы воспоминаниями о связи боярских семейств с «родом великого Владиміра», а не современным их положением в государстве. Этим неопределенным характером об᾽ясняется и двойственная, противоречивая природа пресловутого московского местничества[316]. Нетрудно видеть, наконец, что двойственный характер указанных стремлений об᾽ясняется теми историческими условиями, которые помешали возникновению и упрочению в Москве сильной и влиятельной землевладельческой аристократии. Когда «аристократ» отстаивает свое значение, опираясь лишь на свою принадлежность к тому роду, от которого происходит государь, тогда он еще не настоящий аристократ. Литовские «паны-рада» основывали свою «вольность» на политических правах, завоеванных путем долгой борьбы; понятие о подобных правах выработалось в Литве, – как и в Польше, как и в других западных государствах, – совершенно независимо от соображений о более или менее кровной близости той или другой аристократической семьи к королевскому роду. Поэтому в Литве, как и в западных государствах, но было московского местничества. А.Н.Пыпин нашел нужным защитить Курбского от обвинения в том, что он отстаивал право от᾽езда и право совета[317]. Как я уже заметил выше, Курбский вообще не выдвигал определенных политических требований и не отстаивал определенных политических понятий. Но все-таки ясно, что в его глазах от᾽езд не мог быть таким плохим делом, каким был он в глазах Ивана. Иван считал его изменой: «измƀнниче», – говорит он, обращаясь к Курбскому в одном из своих писем. А Курбский, по всей вероятности, хорошо помнил, что еще очень недавно право от᾽езда признавалось самими московскими государями[318]. Притом Литовское великое княжество в большой части своей территории тоже было Русью, хотя и под «державою» католического государя. В своем ответе на второе письмо Ивана Курбский говорит между прочим: «Царь Перекопскій, присылал яко королеви моляся, такъ и насъ просячи, иже бы пошелъ есть съ нимъ на тую часть Русскія земли, яжъ подъ державою твоею»[319]. Последние слова этого отрывка свидетельствуют, что в представлении Курбского пределы русской земли совсем не совпадали с пределами Московского государства. Интересно, что Курбский отказался пойти против москвитян с «перекопским царем», вопреки приказанию своего
нового государя, польского короля и великого литовского князя[320]. А если он «воевал» московскую землю, выступая под литовскими знаменами, то Литовская Русь издавна привыкла бороться с Московской, как Московская Русь издавна привыкла нападать на Литовскую. Взгляд Курбского на право от᾽езда достаточно полно выражен в следующих строках ответа его на второе письмо Ивана: «азъ давно уже на широковƀщательный листъ твой отписахъ ти, да не возмогохъ послати, непохвальнаго ради обыкновенія земель тƀхъ, иже затворилъ еси царство Русское, сирƀчь свободное естество человеческое, аки во адовƀ твердынƀ; и кто бы изъ земли твоей поƀхалъ, по пророку до чужихъ земель, яко Iисусъ Сираховъ глаголетъ: ты называешь того измƀнникомъ; а если изымаютъ на предƀлƀ, и ты казнишь различными смертьми (тако жъ и здƀ, тобƀ уподобяся, жестоцƀ творятъ)»[321]. Очевидно, что Курбский считал нарушение права от᾽езда одним из проявлений тиранических наклонностей московского царя. Переходя от вопроса об от᾽езде к вопросу о совете, следует заметить, что в своих письмах к Ивану Курбский не касается этого последнего вопроса. Но зато ставит его в своей истории. «Царь же, – говорит он там, – аще и почтенъ царствомъ, a дарованій которыхъ отъ Бога не получилъ, долженъ искати добраго и полезнаго совƀта не токмо у совƀтниковъ, но и у всенародныхъ человƀкъ: понеже даръ духа дается не по богатству внƀшнему а по силƀ царства, но по правости душевной; убо не зритъ Богъ на могутство и гордость, но на правость сердечную, и даетъ дары, сирƀчь елико кто вмƀститъ добрымъ произвеленіемъ»[322]. Тут мы опять не находим определенного требования по части государственного устройства, но зато опять встречаемся с весьма определенным указанием насчет государственного управления. Указание это еще более увеличивается в своем весе благодаря исторической ссылке Курбского на Ивана III, который освободил от татар свое государство, возвеличил его и расширил его пределы, оттого что был «любосовƀтенъ» и имел обычай «ничтоже починати безъ глубочайшаго и многаго совƀта»[323]. Ho Иван III, который, к слову сказать, тоже был довольно-таки деспотичен, совещался с боярской думой, а не со «всенародными человƀки». Поэтому Курбский ставит вопрос шире, чем решался он практикой государственного управления при деде Грозного. Признавая «всенародныхъ человƀкъ» желательными советниками царя, он заставляет вспомнить об «Ином сказании», рекомендовавшем созвание царем вселенского собора. Правда, он выражается не вполне ясно. И сказанное им о «всенародныхъ человƀкъ» может, пожалуй, быть истолковано не смысле созвания земского собора, а в гораздо более ограниченном смысле привлечения в царскую «раду» отдельных выдающихся представителей народа. Но все-таки Курбский желает не только того, чтобы «в правлении участвовали люди честные и опытные», – как выражается А.Н.Пыпин. Он хочет также, чтобы царь
совещался с опытными и честными людьми, участвующими в государственном управлении. А это не одно и то же. Если взгляд Курбского на «совет» заставляет вас вспомнить об «Ином сказании», то ответы Грозного не раз приводят нам на память «Бесƀду валаамских чудотворцев». В первом из них Грозный говорит Курбскому: «Или речеши ми, яко святительскія поученія тако пріимаху? И благо и прикладно! Иное же свою душу спасти, иное же многими душами и тƀлесами пещися: ино убо есть постническое пребываніе, иножъ во общемъ житіи сожитіе, иножъ святительская власть, иножъ царское правленіе»[324]. Автор «Бесƀды валаамских чудотворцев» тоже весьма пространно доказывал, как мы знаем, что иное дело царское правление, а иное – святительская власть[325]. Это не мешает доводам Ивана IV напоминать и доводы Пересветова. Подобно Пересветову, он ссылается на падение Константинополя, как на яркий пример тех печальных последствий, к каким ведет подчинение царя своим советникам. «Смотри же убо се и разумей, – пишет он, – каково правленіе составляется в разныхъ началƀхъ и властехъ, и понеже убо тамо быша царіе послушны епархомъ и сигклитомъ, и въ какову погибель пріидоша! Сія ли убо намъ совƀтуеши, еже къ таковƀ погибели прійти. И се ли убо благочестие еже не строити царства, и злодейственных человƀкъ не взустити и къ разоренiю иноплеменныхъ подати?»[326]. Таким образом, аргументация Грозного является как бы синтезом тех доводов, которые выдвигались идеологами дворянства против господства «велможъ», с теми, которые выставлялись боярскими идеологами против вмешательства духовенства. Это соответствует действительному положению дел в то время. Верховная власть сумела превосходно воспользоваться взаимной борьбой различных общественных сил в своих собственных интересах. В нашей литературе довольно распространен взгляд на Грозного как на талантливого публициста и в особенности полемиста. Но тому, кто дал себе труд прочитать хотя бы только первый ответ его к Курбскому, легко признать справедливость тех насмешек, с которыми встретил опальный боярин «зƀло широкую епистолію великаго князя московскаго». Весьма замечателен по своей полной основательности ядовитый отзыв Курбского о ссылке его противника на св. писание: «А наипаче такъ отъ многихъ священныхъ словесъ хватано, и тƀ со многою яростію и лютостію ни строкаме, а ни стихами, яко обычай искуснымъ и ученымъ, аще о чемъ случится кому будетъ писати, въ краткихъ словесƀхъ многъ разумъ замыкающе; но зƀло паче мƀры преизлишно и звязливо, цƀлыми книгами, и паремьями цƀлыми, и посланьми!»[327]. Грозный в самом деле до смешного неловок и
неуклюж в своем обращении с цитатами. Не менее основательно и ядовитое указание Курбского на то, что цитаты из священных книг перемешаны у Ивана с нелепыми сплетнями: «туто же о постеляхъ, о тƀлогрƀяхъ, и иныя безчисленныя, востину, яко бы неистовыхъ бабъ басни»[328]. Наконец, прав, хотя и резок Курбский и в своем окончательном отзыве о письме Ивана. По его словам, оно написано «такъ варварско, яко не токмо ученымъ и искуснымъ мужемъ, но и простымъ, и дƀтямъ съ удивленіемъ и смƀхомъ, наипаче же въ чужую землю, идƀже нƀкоторые человƀцы обрƀтаются, не токмо в грамматическихъ и риторскихъ, но и въ діалектическихъ и философскихъ ученіяхъ искусные»[329]. И при всем том эта неуклюжая «епистолія» вызывает не только удивление и смех. Местами она способна привести в содрогание поразительным лицемерием безпорядочно напиханных в нее доводов. Этот разнузданный «зверь-человек», с наслаждением купавшийся в крови своих подданных, говорит, что напрасно Курбский бежал от него, убоявшись смерти: «понеже смерть Адамскій грƀхъ общежелательный долгъ всƀмъ человƀкомъ»[330]. Неповинная смерть, – уверяет он, – не смерть, а приобретение. «И аще праведенъ еси и благечестивъ, – продолжаетъ обиженный Iудушка, – почто не изволилъ еси отъ меня, строптиваго владыки, страдать и вƀнецъ жизни наслƀдити? Но ради привременныя славы, и сребролюбія, и сладости міра сего, все свое благочестіе душевное со христіанскою вƀрою и закономъ попралъ еси, уподобился еси къ сƀмени, падающему на камени»[331]. Здесь к лицемерию присоединяется еще отсутствие логики, так как Иван предполагает доказанным именно то, что еще нужно доказать, т.-е. что от᾽езд служилого человека от одного государя к другому есть смертный грех. Впрочем, Иван сам чувствует, что плохим оправданием для него служит указание на смерть как на «общежелательный долгъ всƀмъ человƀкомъ». Он понимает, что ему невозможно отолгаться от общеизвестного факта беспощадного пролития им крови своих подданных. Его беспокоит замечание Курбского о том, что кровь, эта вопиет к богу. И вот он начинает уверять, что крамольные бояре тоже проливали его кровь, – кровь бедного, угнетенного ими государя. И это пролитие боярами его крови гораздо грешнее, по его словам, чем пролитие государем боярской крови. «Кольми же паче, – восклицает он, – наша кровь на васъ вопіетъ къ Богу, отъ васъ самихъ пролитая»[332]. Но какая же это кровь? Когда же проливали ее бояре? Слушайте! «Не ранами, ниже кровными каплями, но многими поты и трудовъ множествомъ отъ васъ отягченъ быхъ безлƀпотно, яко же по премногу отъ васъ отяготихся паче силы! И отъ многаго вашего озлобленія и утƀсненія, вмƀсто кровей много изліяся слезъ нашихъ, паче жъ и воздыханія и стƀнанія сердечная; и отъ сего убо пречресліе пріяхъ»[333]. При этом
ужас опять сменяется в душе читателя удивлением и смехом. Крокодиловы слезы никого не трогают. Да и слишком понятно, что для «пречреслія» находится достаточное об᾽яснение в некоторых привычках разнузданного тирана. Нечего и говорить, что, обвиняя Курбского и его единомышленников в смерти царицы Настасии, Иван ничем не подтверждает своего обвинения. Читателю остается предположить, что державный полемист опять повторяет «неистовыхъ бабъ басни» или же сам придумывает таковые[334]. Мы знаем, что в своих письмах к царю Курбский не выдвигает определенных политических требований. Наоборот, Иван в своих ответах к Курбскому с непреложным убеждением отстаивает совершенно определенный политический взгляд. Он выступает последовательным теоретиком самодержавной власти в восточном смысле этих слов. Он требует от своих подданных самого полного и безусловного повиновения. Они в глазах его – холопы и только холопы. Он считает себя «вольным» «казнить и жаловать» их по своему усмотрению[335]. За свое обращение с ними он считает себя обязанным давать ответ одному богу. «Кто убо постави судію и властителя надъ нами? Или ты даси отвƀтъ за душу мою в день страшного суда?»[336] – спрашивает он Курбского. Забывая или не желая знать историю княжеской власти на Руси, он выводит самодержавие еще от св. Владимира. «Самодержавство Божіимъ изволеніемъ починъ отъ великаго кн. Владиміра, просвƀтившаго всю Русскую землю святымъ крещеніемъ, и великаго царя Владиміра Мономаха, иже отъ Грекъ высокодостойнƀйшую честь воспріемшу, и храброго великаго государя Александра Невскаго, иже надъ безбожными Нƀмцы побƀду показавшаго, и хваламъ достойнаго великаго государя Дмитрія, иже за Дономъ надъ безбожными Агаряны велику победу показавшаго, даже и до мстителя неправдамъ, дƀда нашего великаго государя Ивана, и въ закоснƀнныхъ прародительствіяхъ земли обрƀтателя, блаженныя памяти отца нашего, великаго государя Василія, даже дойде и до насъ, смиренныхъ скипетродержанія Русскаго царствія»[337]. В своем качестве законного представителя самодержавной власти Иван крайне презрительно отзывается об ограниченных монархах. По его мнению, все они «царствіи своими не владƀютъ:
како имъ повелятъ работные ихъ, такъ и владƀютъ»[338]. Даже «королевская монархія» Жана Бодэна, наверно, вызвала бы пренебрежительный отзыв с его стороны. Он убежден, что его бояре едят его «хлеб»[339]. Все, что принадлежит государству или отдельным жителям государства, есть, по его твердому убеждению, собственность государя. Если бы Бодэн знаком был с его письмами, он увидел бы в них великолепнейшую иллюстрацию своей теории «вотчинной монархии». Историческое значение Грозного в том и заключается, что он с помощью своей опричнины завершил превращение Московского государства в такую монархию, т.-е. в монархию восточного типа. Значение же его писем к Курбскому состоит в том, что они содержат в себе идеологию «вотчинной монархии». Совершенно правы историки, утверждающие, что в своем споре с Курбским Иван является новатором, а его опальный противник – защитником старины. Весь вопрос в том, что же именно нового внес Иван IV в теорию и практику Московского государства. А на этот вопрос может быть только один ответ: «введенная им новизна означала полное уничтожение всего того, что так или иначе задерживало окончательное превращение жителей Московского государства в рабов перед лицом государя, совершенно бесправных как в личном, так и в имущественном отношении. Вот почему Курбский, несмотря на свой несомненный консерватизм, представляется в своих письмах сравнительно свободолюбивым человеком и тем привлекает к себе сочувствие читателя. Он решительно неспособен противопоставить последовательному учению Ивана о беспредельной власти царя сколько-нибудь стройную теорию политических прав если не всех жителей страны, то хотя бы высших ее классов. Такая теория не могла и выроста на скудной почве общественных отношений тогдашней Москвы. Но в нем нет холопского настроения. В его лице московский боярин отказывается сложить свое человеческое достоинство к ногам государя. Поэтому его консерватизм много симпатичнее, нежели новаторство Ивана IV.
Глава V Движение общественной мысли в эпоху Смуты
«В беседах с москвитянами, – говорит польский шляхтич Самуил Маскевич, – наши, выхваляя свою вольность, советовали им соединиться с народом польским и также приобрести свободу. Но русские отвечали: «вам дорога ваша воля, нам – неволя. У вас не воля, а своеволие: сильный грабит слабого, может отнять у него имение и самую жизнь. Искать же правосудия по вашим законам долго – дело затянется на несколько лет. А с иного и ничего не возьмешь. У нас, напротив того, самый знатный боярин не властен обидеть последнего простолюдина: но первой жалобе Царь творит суд и расправу. Если же сам Государь поступит неправосудно, его власть: как Бог, он карает и милует. Нам легче перенесть обиду от Царя, чем от своего брата: ибо он владыка всего света»[340]. <A1>Собеседники Маскевича рассуждали совершенно так, как рассуждал, по свидетельству Плутарха, Артабан в своем разговоре с Фемистоклом. Только они подробнее обосновывали свое мнение. Если верить Маскевичу, то важнейшим из всех соображений, которые побуждали их предпочитать московскую неволю польско-литовской вольности, было то, что в Москве легче добиться правосудия. «Москвитяне» уверяли, будто царь творит суд и расправу по первой жалобе. Неизвестно, что отвечал им на это Маскевич. Но мы достаточно знаем теперь внутренние отношения Московского государства, чтобы понимать, как мало соответствовало действительности указанное соображение. В громадном большинстве случаев суд и расправу творили в Москве приказные люди, по всей справедливости заслужившие выразительное название «крапивного семени». Сами жители Московского государства нередко жаловались на то, что им пуще, нежели от турок и татар, приходится страдать от нестерпимой московской волокиты. Что же касается собственно царского суда, то в приводимом Маскевичем отзыве о нем московских людей нота смирения слышится гораздо яснее, нежели нота доверия: если царь поступит неправосудно – его власть: он карает и милует, как бог. И нельзя не признать, что после Грозного нота доверия была несравненно менее уместна в подобных отзывах, нежели нота смирения. Но, как видим, московские люди мирились даже с теми невыгодными сторонами неограниченной власти, которые с такою потрясающей ясностью должны были представиться их взорам в царствование Ивана IV. Маскевич говорит: «Русские действительно уверены, что нет в мире
монарха равного Царю их, которого посему называют: Солнце праведное, светило Русское»[341]. Артабан, конечно, не менее твердо был убежден в том, что нет в мире монарха, равного царю персидскому. Одинаковость общественных положений вела за собою одинаковость политических воззрений. Московские люди были не очень далеки от истины, когда говорили, что польско-литовская вольность похожа на своеволие. Бежав из Москвы от царского деспотизма, Курбский много претерпел впоследствии на Литве от шляхетского «нраву моему не препятствуй». Однако, своевольный польско-литовский шляхтич умел дорожить достоинством, не скажу человека, – человеческое достоинство «хлопа» ставилось им ни во что, – но по крайней мере «рыцаря». И когда Курбский поселился в Литве, он, прежде гордившийся преимущественной своей принадлежностью к роду Владимира, стал заметно проникаться гордым сознанием своего «рыцарского» достоинства. В его письмах к Ивану встречаются мысли, которые вряд ли были знакомы ему до его бегства из Москвы. Отклоняя от себя обвинение в измене, Курбский упрекает Грозного, как мы видели, в том, что он «аки во адовƀ твердынƀ» затворил русское царство, «сирƀчь свободное естество человƀческое». Можно почти с полной уверенностью сказать, что эта ссылка на свободное естество человека, – хотя бы и понимаемая на шляхетский лад, т.-е. крайне узко, – явилась плодом тех новых размышлений, которым стал предаваться беглый князь в новой общественной обстановке. Мы видели, что Пересветов требовал освобождения холопов, указывая на нравственные преимущества свободного состояния. Стало быть, понятие свободы не оставалось совершенно неизвестным московским людям[342]. Но мы видели также, как узко было оно у Пересветова и как мало задумывался он о каких-нибудь политических вольностях. Его программа логически вела к полному игнорированию прав того «человеческого естества» (в его рыцарском виде), на которое ссылался Курбский. Осуществив эту программу, Грозный мог с полным основанием смотреть на всех своих подданных как на своих холопов и быть уверенным, что в своем обращении с ними он должен давать отчет одному только богу. Но чем больше закрепощались государству, – в лице государя, – все жители московской земли, тем тяжелее давила на них государственная машина и тем естественнее было им стремиться к облегчению своего тяжелого положения. Уже автор «Бесƀды валаамских чудотворцев» видел, что далеко не все обстоит благополучно в Московском государстве, и опасался наступления такого времени, когда начнутся междоусобия и зашатается царский трон. Эпоха Смуты оправдала все его опасения. И вот возникает вопрос: как же повлияло Смутное время на политические понятия московских людей? Проф. Ключевский говорит, что уже в царствование Грозного зародилось недовольство московским политическим порядком. «Произвол царя, беспричинные казни, опалы и конфискации вызвали ропот, и не только в высших классах,
но и в народной массе, «тугу и ненависть на царя въ міру», и в обществе проснулась смутная и робкая потребность в законном обеспечении лица и имущества от усмотрения и настроения власти»[343]. События Смутного времени дали, по словам того же ученого, «первый и очень болезненный толчок движению новых понятий, недостававших государственному порядку, построенному угасшею династией)»[344]. К чему же, однако, привело движение новых понятий? Сообщаемые Маскевичем отзывы москвитян о преимуществах их неволи перед польско-литовской вольностью показывают, что в самый разгар Смуты[345] население Великороссии продолжало сохранять тот же взгляд на отношение подданных к верховной власти, который сложился к концу царствования Грозного. И все те факты, на которые ссылается проф. Ключевский, подкрепляя свое мнение, свидетельствуют скорее о застое, чем о движении общественной мысли в период Смуты. Рассмотрим поближе эти факты. В.О.Ключевский думает, что воцарение Василия Шуйского составило эпоху в нашей политической истории, так как новый царь ограничил свою власть и довел об этом до сведения жителей своего государства в особой разосланной по областям записи, на которой он целовал крест. Но сам же Ключевский признает, что содержание подкрестной записи Шуйского отличалось большой односторонностью. «Все обязательства, принятые на себя царем Василием по этой записи, – говорит он, – направлены были исключительно к ограждению личной и имущественной безопасности подданных от произвола сверху, но не касались прямо общих оснований государственного порядка, не изменяли и даже не определяли точнее значения, компетенции и взаимного отношения царя и высших правительственных учреждений»[346]. Это как нельзя более справедливо. Сущность подкрестной записи Василия Ивановича сводится к тому, что он обещает «всемъ православномъ крестьяномъ» (т.-е. христианам, – Г.П.) судить их праведным судом, оберегать их от всякого насильства и без вины не класть своей опалы ни на кого из них. Об изменении политического строя в ней не говорится ни слова. Больше того. В своей грамоте в Пермь Великую Шуйский, сообщая о своем восшествии на престол, обещает «держати Московское государство по тому жъ, какъ прародители ваши великіе Государи Россійскіи Цари»[347]. Это значит, что, по мнению нового царя, политический строй Московского государства должен был оставаться без всякого изменения. Правда, Шуйский обещал судить своих подданных «с бояры своими». Но, как справедливо замечает сам В.О.Ключевский, ограничение это связывало царя лишь в его отношении к отдельным лицам. Притом участие бояр в царском суде вовсе не являлось новостью в Московском государстве. Где же тут движение политических понятий? В.О.Ключевский прибавляет, что подкрестная запись Шуйского имела свою закулисную историю. Тотчас по своем провозглашении новый царь отправился
в Успенский собор и там заявил: «Целую крест всей земле на том, что ни над кем ничего не делати без собору, никакого дурна». Это заявление весьма не понравилось боярам; но царь Василий сделал его не без умысла: «клятвенно обязуясь перед свей землей не карать без собора, он рассчитывал избавиться от боярской опеки, стать земским царем и ограничить свою власть учреждением, к тому непривычным, т.-е. освободить ее от всякого действительного ограничения»[348]. Предположив, что это было в самом деле так, и вспомнив, что в земских соборах XVI века участвовали главным образом служилые люди, мы должны будем признать, что происшествие в Успенском соборе означало лишь попытку нового царя опереться на нисшую часть служилого сословия для ослабления неприятных ему боярских притязаний. Подобная попытка хорошо удалась как Грозному, так и Борису Годунову и привела лишь к расширению самодержавной власти. Странно, кроме того, что в подкрестной записи уже нет речи о соборе, а говорится только об участии бояр в царском суде. Ключевский об᾽ясняет эту странность тем, что подкрестная запись явилась плодом сделки бояр с новым царем. «По предварительному негласному уговору царь делил свою власть с боярами во всех делах законодательства, управления и суда. Отстояв свою думу против земского собора, бояре не настаивали на обнародовании всех вынужденных ими у царя уступок: с их стороны было даже неблагоразумно являть всему обществу, как чисто удалось им ощипать своего старого петуха»[349]. В этом будто бы и заключалась причина того, что подкрестная запись отметила значение Боярской думы лишь как полномочной сотрудницы нового царя. Это слишком тонко. Гораздо более вероятным представляется мне тот взгляд профессора Платонова, согласно которому подкрестная запись царя Василия вовсе не была ограничительной, а являлась только торжественным манифестом нового правительства, скрепленным присягою его главы. Обещаясь «держать» Московское государство так, как держали его прежние цари, Шуйский имел в виду старый порядок, существовавший до опричнины, т.-е. до того времени, когда Грозный принялся отнимать родовые боярские земли, губить знатных людей и налагать опалы на целые группы великородных семей. В лице Шуйского старая знать снова заняла первое место в стране. «Устами своего царя в его записи она торжественно отрекалась от только-что действовавшей системы и обещала «истинный суд» и избавление от всякого «насильства» и неправды, в которых обвиняла предшествовавшие правительства»[350]. Но в таком случае подкрестная запись царя Василия является лишь обещанием осуществить в деле государственного правления тот идеал, к которому стремился еще автор «Бесƀды валаамских чудотворцев». Никакого нового движения понятий в ней незаметно. Поэтому и воцарение Шуйского не может считаться новой эпохой в нашей политической истории.
Ключевский находил, что, обещая истинный суд своим подданным, Шуйский отрицал между прочим ту прерогативу царской власти, которая выразилась в словах Ивана IV: «мы вольны жаловать и казнить своих холопов». Таким образом, он будто бы превращался «из государя холопов в правомерного царя подданных, правящего по законам»[351]. Если бы это было так, то вступление на престол Василия Шуйского в самом деле составило бы эпоху в нашей политической истории. Но это не было так. Московские цари и впоследствии продолжали быть царями холопов. Олеарий, посетивший Москву в царствование Михаила Феодоровича и Алексея Михайловича, определяет русский государственный строй выражением: «monorchia dominica et despotica», и он так поясняет это определение: «государь, каковым является царь или великий князь, получивший по наследию корону, один управляет своей страною, и все его подданные, как дворяне и князья, так и простонародье, горожане и крестьяне, являются его холопами и рабами, с которыми он обращается как хозяин со своими слугами»[352]. Это как-раз то, что говорил об отношении московского государя к своим подданным Герберштейн или Флетчер. Правда, Олеарий считал русское правление тираническим[353], и надо согласиться, московские государи могли быть и бывали тиранами, – да еще какими! Но уже Бодэн весьма справедливо заметил, что восточная вотчинная монархия, – какою являлось между прочим и Московское государство, – могла быть очень далекой от тирании, вполне сохраняя, однако, свой главный отличительный признак: отсутствие у подданных права распоряжаться не только своей личностью, но и своим имуществом. Вотчинная монархия установилась в Москве не потому, что московские государи склонны были к тирании, а потому, что она являлась естественным политическим следствием исторических и главным образом экономических условий развития Великороссии. Конечно, возникновение склонности к тирании чрезвычайно облегчалось бесправием жителей. С прекращением старой династии лица, добивавшиеся московского престола, считали выгодным для себя гласно отказываться от тиранических замашек. Однако, они не могли, если бы даже и захотели, переделать внутренние отношения Московского государства. Им невозможно было превратить это государство из вотчинной монархии в королевскую (чтобы опять употребить здесь термины Бодэна), если бы они даже и доросли до сознания преимуществ правления, основанного на «законах природы». Но при данной обстановке они, конечно, и не могли дорости до такого сознания. Отзывы собеседников Маскевича о выгодах московской неволи показывают, как хорошо приспособились понятия москвитян ко внутренним отношениям вотчинной монархии. Правда, в договоре тушинских депутатов с королем Сигизмундом об избрании королевича Владислава на московский престол видно уже несколько иное отношение
к московской неволе. По мнению В.О.Ключевского, в нем уже выступает идея личных прав, столь мало заметная у нас прежде. Но и здесь идея эта, по признанию того же историка, сводится собственно к тому, что все должны быть судимы по закону и никого не следует наказывать без суда. А в этом своем виде она опять направлялась не против вотчинной монархии, а только против тирании. В.О.Ключевский признает, что в определении сословных прав тушинские послы проявили мало свободомыслия и справедливости. Он говорит: «Договор обязывает блюсти и расширять по заслугам права и преимущества духовенства, думных и приказных людей, столичных и городовых дворян и детей боярских, частию и торговых людей. Но «мужикам хрестьянам» король не дозволяет перехода ни из Руси в Литву, ни из Литвы на Русь, а также и между русскими людьми всяких чинов, т.-е. между землевладельцами. Холопы остаются в прежней зависимости от господ, а вольности им государь давать не будет»[354]. Оно и понятно: насчет холопов и «мужиков хрестьян» польско-литовская шляхта тоже не показывала ни справедливости, ни свободомыслия. Договор так и говорит, что «холопы невольники» должны служить «бояром альбо паном» по-прежнему. Это значит, что паны столь же мало склонялись к улучшению участи холопов, как и бояр: как мы только-что видели, насчет «мужиков хрестьян» установлен был двухсторонний договор: им запрещался выход с Руси на Литву и с Литвы на Русь[355]. Несравненно более характерными для тогдашних московских отношений были те статьи договора, которые касались духовенства и служилых людей. Духовенству обещана была неприкосновенность его имуществ: «наданья вси прошлыхъ господаровъ Московскихъ, и боярскіе и всякихъ людей наданья на церкви Божіи и на монастыри въ цƀлости при церквахъ и монастырехъ зоставити будутъ, ни въ чомъ ихъ не нарушаючи» и т. д.[356]. Это было его старинное требование, осуществление которого должно было представляться более легким при смене династии. Служилым людям обещаны были учтивость и ласки господарские. Но от учтивости и ласки еще вовсе не так близко до признания тех или других определенных политических прав. Сигизмунд обещал за своего сына сохранение старых преимуществ служилых людей: «а жалованье, денежные оброки, и помƀстья и отчизны, кто что мƀлъ передъ тымъ, тое и вперодъ мƀти маетъ, а господарь его милость зъ ласки и щодробливости своее, и надъ то водлугъ заслугъ кождого прибавляти и причинятися будетъ рачити»[357]. Это не могло не нравиться московским служилым людям. Но это не создавало для них никаких новых привилегий. Правда, договор обещает «великихъ становъ людей невиннƀ не понижати, a меншіе станы подносити водлугъ заслугъ». Однако, и это обещание определенно разве в том смысле, что, как указал проф. Платонов, оно не дает никаких сословных льгот и преимуществ «московскимъ
княженецкимъ родамъ», да еще в том, что говорит о повышении служилых людей сообразно с личными заслугами. Эта последняя уступка, очевидно, не имела ничего общего с дарованием каких-нибудь аристократических привилегий. Напротив, в нем обнаруживается стремление «худородных» служилых людей завершить то, что началось при Грозном и продолжалось при Годунове. «С этих страниц февральского договора, – говорит проф. Платонов, – веет духом опричнины и Годуновского режима, теми новшествами правительственного обихода, которые сочетались с новшествами житейскими»[358]. Но для политической свободы еще не было места между этими новшествами правительственного обихода. К тому же для нее совсем неблагоприятен дух опричнины. Договор 4-го февраля, несомненно, ставил некоторые преграды царской власти. Так, например, изменять законы и судебные обычаи новый государь мог лишь с согласия бояр и «всей земли». Это – значительное ограничение. Но и здесь никак нельзя согласиться с проф. Платоновым, который полагает, что оно «имело целью не перестройку прежнего политического порядка, а, напротив, охрану и укрепление «звычаевъ всƀхъ давныхъ добрыхъ» от возможных нарушений со стороны непривычной к московским отношениям власти»[359]. Когда несколько лет спустя избран был в цари человек русского происхождения, к нему отнеслись с меньшим недоверием и потому уже не так заботились, – если вообще заботились, – об ограничении его власти. На соборе 1613 г. народный ум предпочел, по признанию проф. Ключевского, вернуться к старине[360]. И все-таки для московских людей не прошли без следа их беспрестанные сношения с польско-литовской шляхтой в период Смутного времени. В договоре 4-го (14-го) февраля 1610 г. польско-литовское влияние заметнее всего сказалось в требовании, имеющем не столько политический, сколько экономический характер. Статья 11-я этого договора говорит между прочим: «отчизнъ тежъ и маетностей ни въ кого не брати: але естли хто безъ потомства за сего свƀта зойдет, ино на близкихъ повинныхъ спадати маютъ»[361]. Осуществление этого требования в самом деле составило бы важную эпоху в истории Московского государства. Оно оградило бы имущественные права по крайней мере высших слоев населения и тем самым создало бы ту социальную основу, на которую только и могли бы опереться при подходящих обстоятельствах политические права этих слоев. Бодэн сказал бы, что осуществление этого требования превратило бы московскую монархию из вотчинной в королевскую. Но оно осталось неосуществленным. Смута нанесла окончательный удар родовитому боярству, которое было более всех других классов заинтересовано в неприкосновенности «отчизнъ и маетностей». Поместное дворянство пока еще могло прекрасно уживаться с вотчинной монархией, по своему произволу распоряжавшейся «маетностями» подданных. Оттого оно, как видно, и не придавало большого значения указанной статье договора 4-го февраля 1610 г.
Интересным и важным новшеством являлись в той же статье строки, гласившие: «а для науки вольно каждому зъ народу Московского людемъ ƀздити в иншые господарства хрестіянскіе, опрочь бусурманскихъ поганских, а господарь его милость отчизнъ и маетностей у нихъ за то отыймовати не будеть»[362]. Но замечательно, что это требование исчезло из договора с Сигизмундом, когда к нему после сведения с престола Шуйского присоединилось московское боярство. «Правящая знать оказалась на нисшем уровне понятий сравнительно со средними служилыми классами, своими ближайшими исполнительными органами»[363], – замечает по этому случаю проф. Ключевский. Он мог бы прибавить, что когда высший общественный класс или слой обгоняется тем, который непосредственно за ним стоит на общественной лестнице, то этот последний уже не далек от победы над «высшей знатью». Напрасно московская знать вычеркивала из договора 4-го февраля статью о возвышении незнатных людей по заслугам и о том, чтобы «Московскихъ княженетскихъ и боярскихъ родовъ приезжими иноземцы въ отечествƀ и въ чести не тƀснити и не понижати». «Княженетские роды» неумолимо оттеснялись на задний план ходом развития московской вотчинной монархии. После Смуты простое дворянство окончательно стало господствующим сословием, разумеется, поскольку может итти речь о таком сословии в «вотчинной монархии», в которой и господа были «холопями» государя.
Глава VI Общественный быт и общественное настроение Московской Руси после Смутного времени
I
Явления, отмеченные мною в предыдущей главе, прекрасно об᾽ясняются об᾽ективною силою вещей. Восстановляя нарушенный Смутой порядок своей жизни, московские люди не могли произвольно придать тот или иной характер своим взаимным экономическим отношениям. Отношения эти определялись в северо-восточной Руси, – как определяются они всегда и везде, – состоянием производительных сил. Что же касается состояния производительных сил, то Смута могла изменить его не к лучшему, а только к худшему. Площадь возделываемых земель сократилась; крестьянство обеднело. Обеднение крестьянства, на широкой спине которого держалось все социально-политическое здание, естественно повело за собою обеднение служилого класса и замедлило развитие торгово-промышленной деятельности. Если мы примем в соображение, что как-раз тогда в западных государствах совершался быстрый рост производительных сил, то мы придем к тому неизбежному выводу, что после Смуты Московская Русь являлась, по отношению к Западу, значительно более, чем прежде, отсталой страной. Этого мало. Значительно отставая от своих западных соседей в хозяйственном отношении, Московская Русь XVII века вела с ними продолжительные войны[364]. Вследствие этого ей пришлось затрачивать все большую и большую долю своих средств и сил на поддержание органов самозащиты[365]. В стране, продолжавшей оставаться колонизующейся страною, это роковым образом вело ко все большему и большему закрепощению всех слоев населения, а в особенности трудящейся массы, для непосредственной или посредственной службы государству. Другими словами: общественное развитие непременно должно было двигаться в том же самом направлении, в каком двигалось оно до Смуты. Скорость движения постоянно возрастала,
а его результаты делались все более и более выпуклыми. К концу XVII века тяглая масса так распределялась между разными разрядами владельцев:
Приведя эту таблицу, Ключевский отмечает, что только десятая часть (10,4% городской и сельской тяглой массы удержала за собой тогдашнюю свободу (т.-е., вернее сказать, была закрепощена непосредственно государству), а почти девять десятых ее попало в крепостную зависимость от церкви, дворца и военно-служилых людей. «От государственного организма, так сложившегося, – прибавляет этот историк, – несправедливо было бы ждать желательного роста политического, экономического, гражданского и нравственного»[366]. Не касаясь вопроса о желательности роста, я замечу с своей стороны, что так как государственный организм продолжал «расти» в прежнем направлении, в нем не могли возникнуть какие-нибудь новые политические стремления и взгляды. Исследователи говорят иногда о воспитательном значении Смутного времени. И нельзя не согласиться, что значение это было далеко не маловажно. Смута принудила людей Московского государства к самодеятельности. Но их вынужденная самодеятельность ярче всего выразилась в восстановлении и упрочений «вотчинной монархии», главнейшие отличительные черты которой определились уже во второй половине XVI века. Точно так же Смута сделала людей Московского государства более требовательными, чем были они прежде. Недаром историки называют XVII столетие веком народных волнений. Но, как мы увидим это ниже, – и как это понятно само собой, – характер народных волнений XVII века вполне соответствовал характеру тех социально-политических отношений, против которых восставала волновавшаяся народная масса. Новых политических понятий не возникало и в процессе волнений, хотя он становился подчас весьма острым. Общественное сознание изменяется только там, где происходят перемены в общественном бытии.
II
До сих пор не кончен спор о том, была или не была взята ограничительная «запись» с Михаила при его избрании на царство. Московские люди XVII века верили в ее существование. Известный под᾽ячий Котошихин, книгу которого о России мы скоро должны будем рассмотреть довольно подробно, говорит: «Как
прежніе цари послƀ царя Ивана Васильевича обираны на царство: и на нихъ были иманы писма, что имъ быть не жестокимъ и непалчивымъ, безъ суда и безъ вины никого не казнити ни за что, и мыслим о всякихъ дƀлахъ зъ боляры и зъ думными людми сопча, а безъ вƀдомости ихъ тайно и явно никакихъ дƀлъ не дƀлати»[367]. Это вполне определенно. Не менее определенно и следующее показание Котошихина: «А нынƀшняго царя (Алексея Михайловича. Г.П.) обрали на царство, а писма онъ на себя не далъ никакого, что прежніе цари давывали, и не спрашивали, потому что разумƀли его гораздо тихимъ». Мы видим отсюда, что, согласно убеждению по крайней мере некоторых московских людей XVII века, царь Михаил дал ограничительную «запись», а царь Алексей не возобновил ее. С этим вполне совпадают свидетельства некоторых иностранных писателей. Только не совсем ясно, какие именно ограничительные обязательства брал на себя новый царь. Правда, Котошихин как-будто и тут дает совершенно определенное указание. По его словам, обязательства состояли в том, что царь обещался быть не жестоким, никого не казнить без суда и о всех делах совещаться с боярами и с думными людьми. Но тут показание Котошихина вызывает некоторые сомнения. «Как стояли дела в момент избрания нового царя, – говорит П.Η.Милюков, – бояре были бессильны и не могли наложить никаких обязательств: они сами, наравне с казаками, сделались... предметом вражды всей земли, всемогущей тогда в лице своей рати и своих представителей на земском соборе»[368]. Если бояре были безсильны, то как же они могли принудить нового царя к ограничению своей власти? Представляется более вероятным, что ограничительную запись взяла «земля» в лице своей рати или вообще в лице своих представителей. Но тогда непонятно, почему «земля» ограничила царскую власть не в свою собственную пользу, – т.-е. не в пользу «всƀхъ чиновъ людей россійского царствія», – а только в пользу бояр и думных людей. В виду этого приходится предположить, что Котошихин выразился неправильно и что, по действительному смыслу ограничительной «записи», вновь избранный царь обязан был совещаться именно с представителями всей земли, скажем, с Земским Собором. Но тут возникают новые затруднения, почему обязательство, согласно последнему предположению данное Михаилом всей земле, осталось, по выражению Ключевского, незаметным в официальных документах? И почему не нашли нужным взять ограничительную запись с царя Алексея? Неужели только потому, что считали его «тихим»? Допустим, что в самом деле только поэтому. Но тогда надо выяснить, кто же решил, что имел право решить, что не следует брать с Алексея запись в виду его «тихости». Кажется, что это мог решить только Земский Собор, так как, согласно нашему последнему предположению, именно ему было дано царем ограничительное обязательство. Но на подобное решение Земского Собора нет никаких указаний. В виду всего этого наиболее вероятно, что, как думает Ключевский, запись, ограничившая власть Михаила, была плодом негласной придворной сделки, состоявшейся
за кулисами избирательного Земского Собора. Большие боярские роды были бессильны на открытой политической арене, но, искусившиеся во всевозможных интригах, они могли поставить много препятствий на пути Михаила. «Да и для сторонников Михаила власть, случайно или нечисто добытая, была костью, из-за которой они при случае готовы были перегрызться. Общим интересом обоих сторон было оградить себя от повторения испытанных уже неприятностей, когда царь или временщик его именем расправлялся с боярами как с холопами»[369]. Сделка была направлена к ограждению бояр от царского произвола. Поэтому она и осталась негласной. Перед лицом Земского Собора неловко было оглашать договор, благодаря которому царь мог представиться «земле» орудием давно уже ненавистного ей боярства. Ключевский утверждал, что первые годы царствования Михаила вполне оправдывают его предположение: «Тогда видели и рассказывали, как своевольничали в стране правящие люди, «гнушаясь» своим государем, вынужденным смотреть сквозь пальцы на деяния своих приближенных»[370]. К этому можно добавить, что за предположение Ключевского говорит, например, также известие, согласно которому Ф.И.Шереметев писал в Польшу кн. Голицыну: «Миша-де Романов молод, разумом еще не дошел и нам будет поваден». С такого «повадного» кандидата нетрудно было взять выгодное для бояр обязательство. Но так как оно оставалось негласным, то его не только трудно, а прямо невозможно было защищать перед лицом «земли». А к «земле» безусловно необходимо было обращаться, занимаясь трудным делом восстановления старого государственного порядка в разоренной стране. В царствование Михаила представители «земли» часто созывались на Собор. Вот они-то и дали верховной власти возможность свести на нет все значение ограничительной записи, вырванной у нее закулисной интригой. Верховная власть воспользовалась этой возможностью тотчас же по возвращении из польского плена очень мало «повадного» Филарета Никитича. В виду же того, что фактически уничтожено было значение ограничительной записи, совсем неудивительно, что она не была повторена Алексеем.
III
Но если с᾽езжавшиеся на Собор представители «земли» имели полное основание не желать боярской олигархии, то они не могли не доверять самим себе. Почему же не подумали они о том, чтобы взять ограничительную запись в пользу «всенародного множества»? И если они, по той ми другой мимолетной причине, упустили случай взять запись в начале 1613 года, то отчего они и впоследствии никогда не пытались поправить свою ошибку? Ответ заключается в указанном выше ходе развития московского социального строя. Там, где неумолимая экономическая необходимость с возрастающим ускорением вела к посредственному или непосредственному закрепощению всех сил страны, не могла возникнуть мысль даже о самой умеренной политической свободе.
Избирательный собор 1613 года был, в сущности, учредительным собранием. Но, как говорит Ключевский, это учредительное собрание тотчас по выборе царя превратилось в распорядительную комиссию, задача которой состояла в том, чтобы принимать предварительные меры в ожидании времени, когда сформируется настоящее правительство. Эта роль распорядительной комиссии подчиняла Собор верховной власти. А из этой роли он выходил потом только для того, чтобы принимать на себя роль челобитчика. Дальше челобитий он никогда не шел. Ключевский замечает, что иное дело быть носителем народной воли и иное дело быть выразителем народных жалоб и желаний. С этим легко согласиться. Но нужно помнить те конкретные условия, в которых совершалась деятельность Земского Собора. В 1619 году созвали на Собор «добрых и разумных» выборных людей, которые должны были довести земские нужды до сведения центрального правительства. И первым делом этих «добрых и разумных» земских выборных было принятие мер для возвращения на места беглых. Это значит, что с᾽ехавшиеся в Москву выборные русские люди признали самой настоятельной нуждой своей страны восстановление той неволи, в которой жила прежде трудящаяся масса и гнет которой был наиболее глубокой причиной волнений, пережитых Московской Русью во время Смуты. А по мере того, как восстановлялась и еще более расширялась эта неволя; по мере того, как увеличивалась часть населения, попадавшая в тот или другой вид крепостной зависимости, – суживалась та социальная основа, на которую опиралось земское представительство. Крепостные не посылали своих представителей на собор. Поэтому главное влияние на нем принадлежало классу, жившему трудом закрепощенного сельского населения, т.-е. дворянству. Дворянство же было в полной зависимости от центрального правительства между прочим потому, что в тогдашних условиях только с его помощью оно могло держать в повиновении крепостных людей, своим трудом дурно или хорошо обеспечивавших его существование. Таким образом, социальная неволя крестьян обусловливала собою политическую неволю дворянства, как на это превосходно указал тот же Ключевский: «В господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими привилегиями, поглощенном дрязгами крепостного владения, расслабляемом даровым трудом, тупело чувство земского интереса и дряхлела энергия общественной деятельности. Барская усадьба, угнетая деревню и чуждаясь посада, не могла сладить с столичной канцелярией, чтобы дать Земскому Собору значение самодеятельного проводника земской мысли и воли»[371]. Не следует думать, что дворянство было довольно своим положением. Оно было очень бедно[372]. Оно само находилось на крепостной службе у государства и
само немало терпело от того строя, который создавался и поддерживался главным образом его же усилиями и в его же интересах. В январе 1642 г. на соборе, созванном по вопросу о том, принять или не принять от донских казаков Азов, отнятый ими у турок, дворянские представители многих уездов горько жаловались: «а разорены мы пуще турских и крымских басурманов московскою волокитою от неправд и от неправедных судов»[373]. Но чем беднее было это сословие, тем сильнее чувствовало и тем лучше сознавало оно свою зависимость от центрального правительства, которое награждало его «землишками». А чем лучше сознавалась ими эта зависимость, тем меньше было у него расположения к оппозиции и тем меньше способно было оно дорости до других политических понятий, кроме чисто восточного понятия о холопстве служилого человека. На земские соборы XVI столетия созывались представители служилого класса. Они были совещанием правительства со своими собственными чиновниками. Социально-политические нужды, созданные событиями Смутной эпохи, выдвинули на русскую историческую сцену Земский Собор, составлявшийся из представителей «людей всех чинов». На соборах XVII века московское правительство совещалось с «землей», восстановившей его своими усилиями. Но так как все большая и большая часть населения Московского государства, попадая в крепостную зависимость по отношению к разного рода владельцам, переставала посылать на собор своих представителей, то выборные от служилого класса играли все более и более преобладающую роль на соборных совещаниях. Уже одного этого было достаточно, чтобы постепенно превратить собор XVII века в совещание правительства со своими собственными чиновниками, т.-е. вернуть его к старому типу XVI столетия. А когда он вернулся к этому старому типу, московское правительство легко могло заменить его совещаниями другого рода. Оно стало созывать «сведущих людей» от отдельных слоев населения, более заинтересованных, по его мнению, в решении вопроса, подлежавшего рассмотрению в том или другом отдельном случае. Так хирел и умирал центральный орган народного представительства в Московской Руси. Во второй половине XVII века собор не созывался вплоть до смерти царя Федора. Ключевский утверждает, что идея Земского Собора, постепенно погасавшая в правящих и привилегированных слоях, некоторое время держалась среди торгово-промышленных людей, у которых еще теплилось чувство гражданского долга. Он напоминает, как московские торговые люди указывали правительству на необходимость созыва Земского Собора в виду кризиса, вызванного неудачной операцией с медными деньгами. Но он же спешит прибавить, что московские «гостишки и торговые людишки» (как они сами себя называли) были слишком незначительной величиной, чтобы уравновесить общественные отношения. Представители этого слоя, несшего на себе весьма обременительное государственное тягло, «становились на соборе перед подавляющим большинством служилого люда и перед служилым же боярски-приказным правительством»[374]. Ясно, что не их голос, – к тому же совсем не громкий и не решительный, – мог изменять к лучшему
судьбу народного представительства в Московской Руси. Земский Собор, о созыве которого почтительно просили московские «гостишки и торговые людишки» в 1662 году, так и не был созван.
IV
Сказанным, полагаем, достаточно характеризуются экономические и социальные условия, определившие собою взаимные отношения власти и народного представительства, а следовательно и ход развития политической мысли в Московском государстве XVII века. Наши исследователи охотно проводят параллель между русским Земским Собором и народным представительством в государствах Западной Европы. Однако, она не всегда проводится ими правильно. Так, по мнению Ключевского, «народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западно-европейского представительства»[375]. Но в каком же из западно-европейских государств народное представительство возникало для ограничения королевской власти? Оно везде возникало для содействия ей в управлении страною. И в процессе этого содействия оно укрепляло ее. Это особенно справедливо в применении к представительству третьего сословия. Во Франции Филипп Красивый, созывая Генеральные Штаты, пригласил его представителей вовсе не затем, чтобы делиться с ними властью. Он надеялся найти с их стороны поддержку в своем столкновении с папой Бонифацием VIII. Генеральные Штаты 1303 года, – первый по времени земский собор во Франции, – выразили пожелание, чтобы король отстаивал «верховную свободу» своего государства и не признавал над собой, – в том, что касается светской власти, – никакого другого государя, кроме бога (que vous ne reconnaissiez, pour le temporel, souverain en terre, fors, Dieu»). Выразить королю такое пожелание, несомненно, значило способствовать укреплению его власти. Генеральные Штаты и впоследствии служили орудием такого укрепления. Они были ареной борьбы третьего сословия со светской и духовной аристократией. А эта борьба, как известно, и создала абсолютную монархию. Она привела к тому, что французские короли получили, наконец, возможность обходиться без созыва Генеральных Штатов и пользовались ею в течение весьма продолжительного времени (1614–1789 гг.). С своей стороны, короли эти, созывая народных представителей, чаще всего имели в виду только одну цель: подоить своих верных подданных («traire de l'argent»). По словам Ключевского, Земский Собор был не политической силой, а правительственным пособием. В известном смысле это же с полным правом можно сказать о французских Генеральных Штатах. И с неменьшим правом можно утверждать, – как говорит тот же ученый о Земском Соборе, – что им предоставлялось возбуждение законодательных мер в форме ходатайства, между тем как верховное управление удерживало за собой право решать возбужденные вопросы[376].
Тут – неоспоримое сходство. Но различие исторической обстановки привело к тому, что во Франции сословное народное представительство, послужившее королю весьма важным «пособием» и сильно содействовавшее укреплению и расширению его верховной власти, стало к нему в отношение, существенно отличавшееся от того, которое установилось в Московском государстве между Земским Собором и царем. Я уже не раз указывал на то, что московские цари в своей борьбе с боярством опирались главным образом на поместное дворянство, между тем как во Франции самою главною поддержкой королей в их борьбе с феодалами явилось третье сословие. Первоначальная роль этого сословия была очень скромной. Это достаточно доказывается тем фактом, что его представители могли говорить в присутствии короля, только опустившись на колени, тогда как представители высших сословий произносили свои речи стоя. Но вместе с экономическим развитием быстро росло значение третьего сословия в социальной жизни Франции. А вместе с ростом его значения в социальной жизни развивалось и его политическое самосознание. Его представители, прежде смиренно считавшие себя «людишками», все более и более чувствовали себя людьми. При этом они не перестали помогать королю, поскольку дело касалось его борьбы с феодалами. Но, продолжая служить ему «пособием» в этой борьбе, они в то же время стремились положить известные пределы его власти (»ограничить» ее) в области государственного управления там, где дело касалось общенародного интереса. Поэтому на собраниях французских Генеральных Штатов часто раздавались такие речи, о которых и помыслить не могли «добрые и разумные люди», с᾽езжавшиеся на Земский Собор в Московском государстве. Вот пример. На собрании Генеральных Штатов 1484 года в торжественном заседании 28-го февраля руанской депутат Масселэн, сказав, что король должен позаботиться об уменьшении лежавшего на французском народе податного бремени, счел нужным прибавить: «Поступая так, он не окажет милости своему народу, а только исполнит долг справедливости: говорить о милости значило бы злоупотреблять словами». Подобный язык знают только люди: «людишки» выражаются иначе. Продолжая свою речь, Масселэн воскликнул: «Да, в монархии народ остается верховным господином своего имущества, и нельзя отнимать его у народа, когда он в полном своем составе противится этому. Он принадлежит к свободному состоянию: он не раб, а подданный королевской власти»[377]. Тут мы опять встречаем прекрасно знакомое нам по разсуждениям Бодэна различение холопа и подданного. Холоп распоряжается своим имуществом лишь с позволения своего господина, а подданный остается верховным собственником того, чем он владеет, и. король не может без его согласия «отписать на себя» его имение. На Земский Собор
с᾽езжались холопы московского государя; на собраниях Генеральных Штатов выступали подданные французского короля. Накануне заседания, на котором произнесена была цитированная мною речь Масселэна, депутаты третьего сословия в совещании с королевскими советниками, пытавшимися побудить их к уступчивости, говорили им: «Никто не должен удивляться или сердиться, видя, что, получив свои полномочия от народа, взявшись за его дело и поклявшись поддерживать его, народные представители защищают его всеми своими силами». Они заявили, что смотрят на себя прежде всего как на доверенных лиц народа[378] и что им «пришлось бы нести страшную ответственность, если бы они покинули народное дело, подавив крик своей собственной совести»[379]. Это – опять язык людей, а не «людишек». Раздраженный этим благородным языком, один из представителей тогдашних французских правящих сфер воскликнул, что он знает вилэнов: «Не надо, чтобы пред ними мелькал образ свободы, им нужно ярмо». В высшей степени достойны замечания заключительные слова, сказанные представителями третьего сословия королевским советникам: «В тот день, когда король соблаговолит принять нас, наши ораторы будут достаточно красноречивы, чтобы побить наших противников оружием разума и чтобы сделать очевидным для всех, что королю не позволено налагать руку на имущество своих подданных, вопреки единодушному мнению Штатов». Читатель не должен забывать, что я привел здесь отрывки из речей французских депутатов XV, а не конца XVIII столетия.
V
Он должен, кроме того, помнить, что во Франции языком людей умели говорить не только депутаты третьего сословия. Французские феодалы тоже никогда не имели склонности к роли холопов. И если «христианнейшие» короли Франции опирались на третье сословие в борьбе с ними, то они в свою очередь пытались, – там, где такие попытки не требовали от них отказа от своих привилегий, – заручиться симпатиями этого сословия в борьбе с королями. Для примера можно указать на руководящее участие их в Лиге Народного Блага (Ligue du Bien Publique) при Людовике XI. Положим, Людовик XI обнаружил довольно тонкое понимание феодального народолюбия, сказав: «Если бы мы согласились увеличить их пенсии и позволили им по-прежнему угнетать своих вассалов, то им и в голову не пришла бы мысль об общем благе»[380]. Но откуда бы ни приходила в головы феодалов мысль об общем благе, важно то, что временами она действительно забредала туда. На том же собрании Генеральных Штатов в Туре (1484 года) депутат бургонского дворянства Филипп По (seigneur de la Roche) говорил так: «Согласно истории, самодержавный народ (le peuple souverain) создал королей своим выбором, причем
он предпочитал для этого таких людей, которые превосходили других умелостью и добродетелью. В самом деле, народ выбирает себе господина (maitre) в своем собственном интересе. Государи облечены огромною властью не затем, чтобы обогащаться на счет народа, а затем, чтобы обогащать государство и улучшать его положение. Если они поступают иногда иначе, то они ведут себя как тираны и похожи на тех пастырей, которые вместо того, чтобы защищать своих овец, пожирают их, как злые волки... Кто не знает и кто не повторяет, что государственное дело есть дело народа? А если это так, то как же может народ не заботиться о государственном деле? Как могут низкие льстецы приписывать самодержавие государю, который существует только через народ?.. Народ имеет двойное право на заведывание своими делами, так как он господин над ними и так как, в последнем счете, он всегда является жертвой дурного правительства». Выписывая этот отрывок, я снова невольно спрашивал себя, не следует ли напомнить читателю, что речь, из которой я взял его, была произнесена не во время великой революции, а более чем за триста лет до нее; так значительны обнаруженные в ней политическая требовательность и сознание народного достоинства. Конечно, сходство не есть тождество. Филипп По счел нужным напомнить о самодержавии народа собственно по тому поводу, что за малолетством Карла VIII верховная власть попала в руки королевского совета, о составе которого и велся спор: принцы крови стремились обеспечить себе преобладающее влияние в нем. между тем как Филипп По и депутаты, согласные с ним по этому вопросу, хотели подчинить совет влиянию Штатов через посредство лиц, вводимых в него этими последними. При взрослом короле ссылки на народное самодержавие, вероятно, не были бы так решительны. Характерно для дворянского депутата и сделанное им определение народа: «Я называю народом не только нисшее сословие, но всех людей всех сословий, живущих в государстве». Во время великой революции словом народ обозначалась вся совокупность населения минус привилегированные (moins les privilйgiйs). Филипп По, конечно, отверг бы такое определение. И это вполне понятно. Но замечательно, – и для того, кто помнит московские политические отношения, пожалуй, даже удивительно, – что в конце XV века один из представителей французского дворянства мог на собрании Генеральных Штатов произнести речь, в которой, – хотя бы и в виду исключительных обстоятельств, – горячо и умно отстаивался принцип народного самодержавия, сыгравший такую большую роль в политической литературе XVIII и XIX столетий. Не менее достойно замечания и следующее. Отметив, что во Франции нет ни одного законодательного положения, в силу которого (при малолетстве короля) управление делами должно было бы принадлежать всем принцам крови или одному из них, По сказал: «Значит, все это нужно определить; и надо выполнить это без колебаний. Сделаем так, чтобы ничто не осталось неопределенным. Не покинем государственного блага на произвол горсти лиц; ибо кто поручится нам за то, что короли всегда будут добры и справедливы? В этом случае, как и всегда, нужно выставить твердое правило и начертать поведение (fixer une rиgle et tracer une
conduite)»[381]. Если верить Котощихину, то московские люди, «обирая» на царство Алексея Михайловича, не нашли нужным «выставить твердое правило и начертать поведение», положившись на «тихий» нрав молодого царя. Филипп По признавал, что народ не имеет права царствовать. «Но поймите, – говорил он, – что он имеет право управлять государством через посредство своих выборных»[382]. До таких политических мыслей никогда не возвышалось московское дворянство, в XVII веке ставшее господствующим сословием.
VI
Русский исторический процесс не отличается абсолютным своеобразием; но нужно быть слепым, чтобы, сравнивая его с историческим процессом западных государств, – скажем, Франции – не заметить в нем своеобразия относительного. С точки зрения качественного анализа химический состав воды одинаков с составом перекиси водорода. Каждое из этих тел образуется соединением кислорода с водородом. Но, с точки зрения количественного анализа, между ними есть несомненная разница: перекись водорода (Н2О2) богаче кислородом, нежели вода (Н2О). И этим количественным различием об᾽ясняется большое различие их свойств, т.-е. качественная разница между ними. Нечто совершенно подобное мы видим и в истории. С точки зрения качественного анализа, социально состав Московского государства был одинаков с составом французского королевства: и тут, и там были крестьяне, торгово-промышленное население, дворянство, аристократия, духовенство и, наконец, монарх. Но количественный анализ открывает большую разницу в их социальном составе: вследствие большой экономической отсталости Московского государства сравнительно с Францией торгово-промышленное сословие играло в первом из этих двух государств гораздо менее влиятельную роль, нежели во втором. В своей борьбе с феодальными землевладельцами московский монарх опирался преимущественно на поместное дворянство, а французский – на третье сословие. Географическая среда гораздо менее благоприятствовала развитию производительных сил в Великороссии, нежели во Франции. Это важное обстоятельство, обусловившее собой количественную разницу в социальном составе населения двух названных стран, вызвало также весьма существенное различие во взаимных отношениях составных социальных элементов той и другой. Московское государство было страной, в которой на очень долгое время затянулся процесс колонизации при преобладании условий натурального хозяйства. Неизбежным следствием исключительной длительности этого процесса явилась крепостная зависимость трудящейся массы по отношению к частным лицам и государству. В состав закрепощенной трудящейся массы входило не только сельское, но и городское население. Посадские люди не могли делаться крепостными
частных владельцев. Уложение 1649 года грозило кнутом и ссылкой в Сибирь тем из них, которые приняли бы на себя крепостные обязательства путем так-называемого заклада. Но, по превосходному замечанию Ключевского, личная свобода, которая поддерживалась кнутом, сама становилась родом государственной повинности. «Уложение не отменяло личной неволи во имя свободы, – говорит он, – а личную свободу превращало в неволю во имя государственного интереса»[383]. Таким образом, тот или другой род крепостной зависимости распространился на все трудящееся население Московского государства за самыми малыми исключениями. Наконец, историческая обстановка, в которой развивалось Московское государство, обусловила собою то, что оно вынуждено было затрачивать все большую часть своих средств на защиту своего существования в борьбе с западными соседями, все более и более опережавшими ее на пути экономического развития[384]. Это последнее обстоятельство еще более усиливало лежавший на его населении гнет крепостной зависимости. И, наоборот, известно, что во Франции число крепостных постоянно уменьшалось, начиная со Средних Веков. По словам Рамбо, в Нормандии уже в XII веке не оставалось и следа от крепостничества. В других частях Франции оно исчезало медленнее. Но и там число крепостных (serfs) постоянно уменьшалось. В 1815 году Людовик X позволил крепостным королевских владений выкупаться на волю. Это, конечно, мало говорит в пользу королевского бескорыстия, но неоспоримо свидетельствует о значительных успехах, сделанных денежным хозяйством в тогдашней Франции. Что касается Генеральных Штатов, то уже с конца XV века крестьянство участвовало в выборе тех представителей, которых посылало туда третье сословие. Оно принимало участие также в выработке наказов депутатам (cahiers). Мы видим, стало быть, что если в Московской Руси ход экономического развития неуклонно суживал ту социальную основу, на которой стояло политическое здание народного представительства, то во Франции он, наоборот, постоянно расширял ее. Неудивительно, что значение этого представительства было далеко не одинаково во Франции и в Московской Руси. Конечно, и здесь мы имеем пред собой различие не абсолютное, а только относительное; не качественное, а лишь количественное. Как отмечено мною выше, французские Генеральные Штаты тоже могли только бить челом государю о своих нуждах. Право окончательного решения принадлежало верховной власти. От нее же зависело и созвание, и распущенно Штатов. И она не созывала их в течение долгого времени. Все это так. Но в вопросах этого рода едва ли не больше, нежели где-нибудь, надо помнить, что количественные различия переходят в качественные. Хотя французские Генеральные Штаты тоже обладали в последнем счете лишь правом челобитий, но то население, которое в лице своих представителей говорило на их собраниях о своих нуждах, все-таки имело гораздо более значительное влияние на законодательство своей страны, нежели население Московской Руси. Жители
Французского королевства считали себя подданными своего государя, жители Московского государства величали себя царскими холопами. Да и на это название имели право не все, а только более высокопоставленные. Люди нисшего класса назывались царскими сиротами. «Понятно, что ни в беспомощных сиротах, ни в холопах нельзя искать силы и самостоятельности», – пишет Соловьев[385]. И это в самом деле так. С᾽езжавшиеся на Собор представители служилых холопов и посадских сирот не обнаруживали ни силы, ни самостоятельности. В отличие от них, собиравшиеся на Генеральные Штаты представители подданных французского короля не раз выказывали и силу, и самостоятельность. Соловьев говорит там же, что беспомощные сироты и холопы не могут иметь собственного мнения. Однако, это уже не совсем так. И те, и другие имели свое мнение, но оно соответствовало их униженному положению и никогда не развивалось в сколько-нибудь широкое политическое сознание. Вот почему на Земских Соборах Московского государства никогда не раздавалось таких речей об обязанностях главы государства и о правах народа, какие произносились на собраниях французских Генеральных Штатов. Повторяю, количественные различия переходят в качественные.
VII
«Читая записки, поданные сословными представителями на этом Соборе (на Соборе 1642 года. Г.П.) чувствуешь, – читаем мы у Ключевского, – что этим представителям нечего делать вместе, у них общего дела нет, а осталась только вражда интересов. Каждый класс думает про себя, особо от других, знает только свои ближайшие нужды и несправедливые преимущества других. Очевидно, политическое обособление сословий повело ко взаимному нравственному их отчуждению, при котором не могла не расторгнутая их совместная соборная деятельность»[386]. На собраниях французских Генеральных Штатов вражда интересов тоже вела ко взаимному нравственному отчуждению сословий. И это отчуждение тоже сильно мешало подчас их совместной политической деятельности. Центральная власть сумела воспользоваться этим во Франции, как и в России. Но, отмечая это сходство, не забудем и того важного различия, которое нам теперь хорошо известно... Если в Московском государстве, вследствие закрепощения трудящейся массы, каждое из сословий, представленных на Соборе, перестало видеть что-либо за пределами своих ближайших сословных нужд, то во Франции даже представители привилегированных сословий в некоторых случаях возвышались до ясного понимания общегосударственного интереса. Представители же торгово-промышленного сословия часто обнаруживали широкое понимание интересов всего трудящегося населения. В одном из заседаний Генеральных Штатов 1614 года один из них выразил королю свое удивление тому, что французский народ может удовлетворять всем предъявляемым к нему
требованиям. «Он должен доставлять пищу вашему величеству, а также всему духовенству, дворянству и третьему сословию. Если бы не работал бедный народ, то какое значение имели бы для церкви принадлежащие ей десятины и большие имения, для дворянства – его прекрасные земли, его большие феодальные имущества (grands fiefs)? Для третьего сословия – его дома его ренты его наследства? Далее. Кто дает вашему величеству средства поддерживать свое королевское достоинство и удовлетворять насущные государственные нужды внутри и вне королевства? Кто дает вам средства собирать войско, если не земледелец?» Характеризуя затем несчастное положение бедных земледельцев, которых «обдирают» (йcorchent) военные люди, этот депутат, – prйvфt des marchands, купеческий голова, Мирон, воскликнул, что французский народ меньше страдал от сарацинов, когда они приходили во Францию[387]. По внешности это тождественно с жалобой наших дворян на то, что московская волокита разоряла их больше, нежели турки и татары. Но, во-первых, московские служилые люди заботились только о своем сословии, между тем как парижский «гость» Мирон говорил о крестьянах; во-вторых, московские дворяне только жаловались, а французский купеческий голова грозил: «Если ваше величество не примет мер (против указанного Мироном зла. Г.П.), то доведенный до отчаяния бедный народ может сообразить, что солдат есть не кто иной, как вооруженный крестьянин, и что виноградарь, взяв в руки аркебуз, перестанет быть наковальней и сделается молотом»[388]. Поучительные размышления Мирона обнаруживают большую широту «собственного мнения» у представителей французских «гостей». Они не забывали и ближайших нужд своих доверителей. Конечно, нет! Но их политическое развитие поднялось уже на ту ступень, с которой видна была, несомненно, существовавшая тогда в действительности тесная связь этих нужд с коренными нуждами всего трудящегося населения Франции. В высшей степени достойно замечания, что на том же собрании Генеральных Штатов (1614 года) представители третьего сословия потребовали принятия мер для полной отмены остатков крепостного права во Франции[389]. В виду подобных требований можно сказать, чіо хотя у представителей третьего сословия было очень мало «общего дела» с представителями привилегированных сословий, – с которыми они жестоко ссорились, – но они показали себя способными понять общность своего «дела» с «делом» всего трудящегося населения Франции. А это несравненно важнее. Это значит, что не лишено было основания опасение королевского советника, воскликнувшего в 1484 г., после совещания с представителями третьего сословия, что перед вилэнами не должен мелькать образ свободы. Пленительный образ этот, как видно, уже давно мелькал перед образованной французской буржуазией. Ход развития давно уже подготовлял ее к роли гегемона во всенародном освободительном движении против «старого порядка». В следующем столетии она и взяла на себя эту роль.
VIII
Теперь я приглашу читателя вернуться со мною в Москву XVI века и вспомнить, что, по мнению одного из публицистов этого века, – автора приложения, в некоторых списках сопровождающего «Бесƀду валаамских чудотворцев» и носящего название «Ино сказаніе тоежъ бесƀды», – царю надлежит править, опираясь на все общественные силы Московского государства. А для этого следует созвать «единомысленный вселенский совет», т.-е. Земский Собор. Чтобы совет был в самом доле вселенским, его необходимо, по мнению указанного публициста, «воздвигнути отъ всƀхъ градовъ и отъ уƀздовъ градовъ тƀхъ, безо величества и высокоумія гордости». Это значит, автор «Иного сказания» требовал широкого представительства всего населения Московского государства на Соборе. Но это требование оказалось неосуществимым, так как на трудящуюся массу все больше и больше распространялся гнет крепостной зависимости. Произошло это не от чьего-нибудь «высокоумия гордости», а по неумолимым экономическим причинам. Без сомнения, «высокоумие гордости» в самой высокой степени свойственно было центральной власти Московского государства. Но оно явилось следствием, а не причиной. Оно произошло оттого, что торгово-промышленное население было слишком слабо, чтобы энергично отстаивать идею представительства, между тем как служилое сословие перестало дорожить ею. «С установлением крепостной неволи крестьян дворянство, поглощая в себя боярство, сделалось господствующим классом; но оно, помимо Собора, нашло более удобный путь для проведения своих интересов – непосредственное обращение к верховной власти с коллективными челобитьями, а боярско-дворянские кружки, преемственно обседавшие престол слабых царей, облегчали этот путь»[390]. Неудивительно, что в истории нашего Земского Собора нет того драматизма, каким отличается история французских Генеральных Штатов (об истории народного представительства в Англии нечего и говорить). Тот факт, что уже в XVI веке некоторые русские люди задумывались о пользе, которую принесло бы стране созвание совета на основе «вселенского», т.-е. всенародного, представительства, ясно показывает, что и в московских головах могли возникать политические мысли, имевшие огромное значение в истории развития общественного сознания Западной Европы. Но общественное бытие было неблагоприятно у нас для сколько-нибудь значительного развития этих мыслей. Поэтому они отцветали, не успевши расцвесть. По той же причине они всегда оставались смутными. Тут было только одно исключение: мысль о безграничности монархической власти уже в XVI веке приняла вполне определенный характер. «А жаловати есмя своихъ холопей вольны, а и казнити вольны жъ есмя», – писал Грозный Курбскому. Невозможно выражаться определеннее. И эта мысль о безграничности царской власти была чужда всякого элемента утопии. Она вполне соответствовала ходу общественного развития. Отсутствие в ней утопического элемента, ее полное соответствие ходу общественного развития вело за собой то,
что в пределах Московского государства она никак не могла встретиться с противоположной ей мыслью о народном самодержавии, которая нередко враждебно сталкивалась с ней на Западе даже в монархической Франции. Холопы не способны были дорости и до несравненно менее широкой мысли об ограждении прав высших классов общества какими-нибудь законными нормами. Я уже говорил, что крайне бедно было политическое содержание ограничительных записей, полученных боярами от некоторых московских государей. Этот отзыв идет вразрез с авторитетным мнением Ключевского, который считает, что подкрестная запись Шуйского открыла собою новую эру в нашей политической истории. Но, как я уже заметил, у того же историка мы встречаем такие строки: «Царская власть ограничивалась советом бояр, вместе с которым она действовала и прежде; но это ограничение связывало царя лишь в судных делах, в отношении к отдельным лицам»[391]. Если ограничение распространялось только на отношение царя к отдельным лицам, то ясно, что в государственных делах его власть оставалась безпредельной.
IX
В другом месте Ключевский говорит: «Василий Шуйский, формально ограничивший свою власть в официальных актах писался «самодержцем», как титуловались природные московские государи[392]. Он об᾽ясняет это неподатливостью московского мышления. Хотя оно действительно было до крайности неподатливо, однако, нельзя не признать, что в данном случае оно показало себя очень последовательным. Приняв на себя известные обязательства только в том, что касалось судных дел, Шуйский остался таким же самодержцем, каким были «природные» московские государи. При венчании на царство природного московского государя Федора Ивановича митрополит Дионисий в поучении, сказанном по этому торжественному случаю, увещевал царя «имƀть вƀру ко святымъ церквамъ и честнымъ монастырямъ; ему, митрополиту, и всƀмъ своимъ богомольцамъ повиноваться, ибо честь, воздающаяся святителю, къ Самому Христу восходитъ; братью свою по плоти любить и почитать; бояръ и вельможъ жаловать и беречь по ихъ отечеству; и ко всƀмъ князьямъ и княжатамъ, къ дƀтямъ боярскимъ и ко всему воинству быть приступну, милостиву и привƀтну; всƀхъ православныхъ христіанъ блюсти, жаловать и попеченіе о нихъ имƀть отъ всего сердца; за обидимыхъ стоять царски и мужески, не давать обижать ни по суду и ни по правдƀ; языка льстиваго и слуха суетнаго не принимать, оболгателя не слушать, и злым людямъ вƀры не давать; быть любомудру или мудрымъ последовать, потому что на нихъ, как на престолƀ, Богъ почиваетъ; раздавать саны безвозмездно, ибо купивши власть мздоимцемъ бываетъ, и проч.»[393]. Все это прекрасные советы, но все это советы самодержавному государю. С мыслью об ограничении царской власти в них нет ничего общего. Всякий понимает, почему митрополит нашел такие советы уместными при венчании
на царство Федора Ивановича: потому, что покойный отец нового царя богомольцам своим не повиновался; бояр и вельмож не берег и не жаловал; православных христиан не блюл; за обидимых не стоял, а, напротив, сам обижал своих холопей и сирот всеми мерами и всеми способами; языка льстивого принимал; оболгателя слушал; злым людям веру давал и т.д., и т.д. Служилому сословию никак не могла нравиться такая практика царского самодержавия. Известно, что и холопы всегда предпочитали добрых господ злым. Митрополит Дионисий счел себя нравственно обязанным посоветовать Федору Ивановичу быть добрым господином. Иван Грозный дал своим подданным наглядный политический урок, смысл которого сводился к тому, что иное дело неогранченный монарх хотя бы и в восточном смысле, а иное дело – жестокий тиран. Страшно дорогой ценой заплатив за этот урок, высший слой служилого сословия в течение некоторого времени находил нужным напоминать новым царям о различии между неограниченным монархом и тираном. Некоторые из царей давали ему даже расписки в том, что ими усвоено это различие[394]. Но холопы доброго господина все-таки – холопы. Беря со своих царей «записи», служилые люди Московского государства нимало не избавляли себя от холопской зависимости по отношению к ним. Вот почему «записи» фактически ровно ничего не изменяли даже в судных делах. И если мы предположим, что боярам удалось взять с Михаила более содержательное обязательство, то ведь от самого же Ключевского мы слышали, при каких обстоятельствах оно возникло. Плод тайных интриг, происходивших за кулисами избирательного Земского Собора, оно могло более или менее долго влиять на ход государственного управления, но отнюдь не изменило государственного строя. Московская Русь, несмотря на записи, осталась вотчинной монархией, причем распространение населения все более и более упрочивало вотчинный характер верховной власти. Московские люди недаром говорили Маскевичу, что предпочитают свое политическое безправие польской вольности. Они чувствовали, что у них не может быть другого политического порядка, и находили отсутствие вольности чем-то естественным и чуть ли не благочестивым. В своем «Извƀтƀ царю Василію Ивановичу всеа Росіи» старец Варлаам, рассказывая о своем путешествии с Григорием Отрепьевым в Литву, сообщает, как они устроились в Киево-Печерском монастыре и как он жаловался на своего спутника, когда тот захотел снять с себя иноческое платье. Печерский архимандрит Елисей и вся монастырская братия, выслушав его жалобу, ответили ему: «Здƀся де земля въ Литвƀ вольная; въ коей хто вƀрƀ хочетъ, въ той и пребывает». Они же почему-то, – может быть, находя излишней его московскую ревность о Господе, – не позволили Варлааму дольше оставаться в монастыре, так что и он ушел в Острог, куда направился Отрепьев. Тут им опять овладела забота о спасении души своего спутника, который начал «учитися въ школƀ по-латынски и по-польски
и люторской грамотƀ, и бысть отметникъ и законопреступникъ православный сущія христіанскія вƀры». Позабыв о томъ, что Литва «земля вольная», он опять отправился с доносом – на этот раз к самому князю Василию Острожскому. Но и на этот раз донос не произвел того действия, какого ждал от него, основываясь на своем московском опыте, усердный старец. «И князь Василей и всƀ его дворовые люди говорили мнƀ: здƀся де земля, какъ хто хочетъ, тотъ въ той вƀрƀ и пребываеть. – Да князь же мнƀ говорилъ: сынъ де мой князь Янышъ родился во христіянской вƀрƀ, а держитъ Ляшскую вƀру, и мнƀ де его не уняти»[395]. Получая такого рода ответы, Варлаам никак не мог сомневаться в том, что существуют на свете более или менее вольные страны. Но ни откуда не видно, чтобы, нимало не сомневаясь в существовании «вольных» стран, наш бывалый старец хоть на минуту остановился перед вопросом о том, не следует ли прибавить «воли» московским людям: иное дело «вольные» страны, а иное дело Московское государство; в вольных странах «в коей хто вƀрƀ хочетъ, въ той и пребываетъ», а в Московском государстве можно и должно принуждать людей ко спасению своей души батожьем, тюрьмой и тому подобными твердыми доводами и решительными мерами. В «вольных» странах каждый может учиться даже «люторской грамоте», а в Москве этого нельзя делать под страхом обвинения в ереси. «Вольные» страны Москве не указ!
X
Как низок был уровень политических понятий в населении Московского государства XVII века, показывают тогдашние политические процессы. Такие процессы вызывались обыкновенно «непригожими словами» о государе, говорившимися «спроста ума своего», «хмельным делом». В первые годы царствования Михаила в «непригожих словах» встречается иногда, правда, крайне редко, нечто похожее на кое-какое, – хотя и весьма элементарное, – политическое содержание, завещанное Смутой. Обыватели приглашают выпить за благочестивого государя Михаила Феодоровича, а он спрашивает: «Да не жив ли еще царь Дмитрий Иванович?» Его притесняют царские воеводы, а он, потеряв терпение, кричит: «Так не поступали и литовские люди». Но потом в них постепенно пропадает и это элементарнейшее политическое содержание. Человек обвиняется в том, что он сказал: «В меня де такова ж борода, что у государя». Почему этот бедняк которому, очевидно, грозят «нещадные батоги», вспомнил о государевой бороде? Стольник и воевода Н.С.Собакин в своем донесении подробно раз᾽ясняет эту психологическую загадку. Допрошенный им боярский сын Сергеев показал: «В прошлом де во 135-м (т.-е. 1627. Г.П.) году у Антошка Плотникова на беседе я был и напився де пьян, тюремный сторож Сенька учал меня лаять и я де ему молыл: мужик де, про что меня лаешь? бороду де тебе за то выдеру! И он де Сенька молыл: не дери де моей бороды, мужик де я государев и борода де у меня государева. А опроче
де я того про г. неподобного слова не слыхал». Это подтвердили и другие свидетели[396]. Выходит, что «воровство» Сеньки состояло не в том, что он дерзостно сравнил свою бороду с бородой московского государя, а только в том, что он об᾽явил ее царской собственностью. Это, как видите, не заключало в себе ровно ничего опасного для московского политического порядка. Скажу больше. Тут и «воровства»-то никакого не было! Возвещая, хотя бы и «по пьяному делу», о том, что он целиком, до бороды включительно, принадлежит государю, злополучный Сенька показал лишь ясное понимание социальной основы московской вотчинной монархии и свою непоколебимую верность этой основе. Вот другой пример: «141 г. (т.-е. 1633) ноября в 6 д. колодник Петр Рязанцов... пришед в с᾽езжую избу, сказал: ноября же де в 5 д. ввечеру пришед на караул десятник стрелецкий Ивашко Распопин, и почел де меня вязать и лаять всякою неподобною лаею, и яз де ему стал говорить: за что меня лаешь, яз де буду на тебя г. бить челом! И тот де Ивашко Распопин показал мне перст и молыл мне: «вот де тебе и с государем»[397]. Конечно, показание перста было в данном случае жестом довольно непочтительным. Но и оно не дает ни малейшего повода думать, что политические понятия Ивашки Распопина чем-нибудь грозили московскому политическому порядку. Приведу еще два поучительных случая. На Святой неделе 157 года (т.-е. 1649) «сынчишко боярский» Иван Пашков поругался с дьячком церкви свв. Афанасия и Кирилла, Нежданом. Он крикнул дьячку: «Чей де ты?» И дьчок ему сказал: «Я де государев, и Афанасия и Кирилла церковный дьячок». А дьячокИвану говорил: «А ты де чей?» И Иван сказал: «я де х. (хлоп) государев, наш де г. ц. и в. к. A. M. в. Р. (государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея России) выше Афанасия и Кирилла». И дьячок ему сказал: Г. (осударь) де ц. (арь) Бог земной, а Афанасию и Кириллу молится». Этот спор светской и духовной власти кончился дракой. Разобрав дело, Москва с полным беспристрастием постановила: сына боярского бить батоги нещадно – «пей брагу да таких слов не говори», и дьячка бить потому ж[398]. В 148 (1640) году мещевские казаки Алпатов, Исаев, Филиппов и Никифоров жаловались на посадского человека Блестина. Они обвиняли его в том, что он сказал такое «слово»: «глуп де князь великий, что вас казаков поит и кормит». Блестин признавал, что он выразился «негораздо», но ссылался на следующее смягчающее обстоятельство: «В хмелю и без хмелю ко мне, сироте, приступает, сброжу с ума, а ведома та моя болезнь всему городу Мещевску». Москва приказала мещевскому воеводе бить больного Блестина «батоги нещадно, чтоб, на то смотря, иным неповадно было так воровать»[399]. Интересно, что к делам о подобном, совершенно безобидном, «воровстве» привлекались главным образом нисшие слои населения. Из служилых людей
«непригожие речи» говорили «спроста ума своего» едва ли не исключительно «сынчишки боярские». Вряд ли возможно предположить, что стоявшие выше их слои служилого класса реже занимались «пьяным делом». Может быть, они отличались во хмелю большей сдержанностью или не любили доносить друг на друга? Но, как бы там ни было, политические процессы в Московском государстве XVII века отнюдь не свидетельствуют о том, что в нем существовали хотя бы зародыши сколько-нибудь серьезной политической оппозиции.
XI
Этот вывод вполне подтверждается изучением довольно многочисленных литературных памятников, относящихся к Смутному времени. Нечего и говорить, что авторы этих памятников смотрят на исторические события с нравственно-религиозной точки зрения и видят в бедствиях Смуты божье наказанье за грехи. В «Повести о некоей брани, надлежащей на благочестивую Россию» говорится: «Самъ бо рече Господь: «егда падая, не востанетъ ли? Или отвращаяся не обратится?» И паки: «обратитися ко Мнƀ и обращуся къ вамъ», глаголетъ Господь, наказуя насъ овогда гладомъ, овогда огненными запаленіи, овогда же безбожныхъ нахоженьми, и межиусобяою бранію, и прочими таковыми, понеже бо согрƀшиша отъ главы и до ногу, сіирƀчь, отъ великихъ и до нижайшихъ»[400]. Некоторые другие авторы об᾽ясняют печальные события Смутного времени преимущественно грехами отдельных лиц, – напр., Бориса Годунова. Но в общем все они держатся того взгляда на историю, о котором Огюст Конт сказал бы, что он принадлежит к теологической фазе развития мысли[401]. Конечно, нравственно-религиозная точка зрения ни мало не исключает политических симпатий или антипатий. Заметны такие симпатии и антипатии и в сказаниях о Смутном времени. Так, например, одни из них хвалят Шуйского, другие не любят его. Различие отношений к этому царю показывает, что одни из авторов сказаний сочувствовали боярским тенденциям, между тем как другие пропитаны были социально-политическими стремлениями дворянства. Но трудно согласиться с В. А. Келтуялой, который в авторе одного из сказаний, видит противника самодержавия. Этот уважаемый исследователь совершенно прав, говоря, что указанный им автор «стоит за царя Шуйского и нападает на Бориса и Лжедимитрия»[402]. Но нападки на Бориса доказывают в данном случае только то, что автор сказания не любил в нем продолжателя враждебной боярству социальной
политики Ивана Грозного. Что же касается самодержавия, то не надо упускать из виду, что, говоря о Шуйском, на стороне которого он стоит всецело, автор сказания без всяких оговорок называет этого царя «всеа Русіи самодержцемъ» и утверждает, что он приял скипетр в свою десницу от всемогущего бога. При этом он сообщает, что «праведный и благочестивый» Шуйский был прежних благоверных царей «корене»[403]. На свое происхождение от корня прежних царей заботливо указывал, как известно, сам Шуйский. Но понятно, что он делал это вовсе не с целью умаления своих самодержавных прав. Нашему автору хорошо известна «запись целовальная, по которой сам царь целовал крест»: он включил ее в свое сказание. Но если бы он видел в ней документ, ограничивавший власть нового царя, и если бы сам он был противником самодержавия, то он, конечно, отнес бы ее к числу тех радостей, которые, по его словам, господь даровал православным христианам. Но он повествует только о трех радостях: 1) падение богомерзкого богоотступника, еретика Гришки Отрепьева; 2) дождь и теплота солнечная на всеплодие; 3) перенесение мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву. Об ограничении самодержавия нет и речи. Наконец, характеризуя правление Шуйского, который называется у него истинным пастырем, а не наемником, автор говорит, что царь этот «и нынƀ соблюдаетъ истинную православную вƀру христіянскую, яко зƀницу ока, и управляетъ и наставляетъ всякаго на путь спасенія, дабы по отшествіи своемъ (т.-е. по смерти. Г.П.) вси были наслƀдницы породы жизненныя, а не ведетъ насъ въ погибель и, паки реку, совращаетъ съ пути погибельнаго». Вот и все. Автор в восторге от душеспасительной политики Шуйского. Он восклицает: «И о семъ во всемъ слава Богу, сотворившему насъ. Аминь»[404]. Но это свидетельствует только об его собственном благочестивом настроении, а не о том, что он был противником самодержавия. В политическом отношении, пожалуй, наиболее содержательным из всех сказаний, нас здесь интересующих, является «Временник» дьяка Ивана Тимофеева. Дьяк этот, разумеется, тоже стоит на религиозно-нравственной точке зрения. Но у него яснее, чем у других, выходит, что под грехами, за которые наказал бог Московское государство, надо, в сущности, разуметь ошибки в социально-политической области. Пока не было ошибок, все шло хорошо; а когда они были сделаны, земля замутилась. В каком же именно виде представляется Тимофееву хороший ход дел, прекратившийся вследствие ошибок? Вот ответ, до последней степени характерный для московского мышления XVII века: «И якоже Адамови прежде преступления ему дивиi вси быша самопокорни о всемъ, еще сему подобне во временахъ послƀднихъ и наша самодержавніи во своихъ державахъ обладаху нами всƀми, отъ вƀка рабы своими... къ нимъ же быхомъ отъ всƀхъ многъ вƀкъ доселƀ непрекословни, елико по писанію быти достоитъ ко своимъ владыкомъ рабомъ повиннƀмъ... тако безотвƀтни быша къ нимъ, яко рыбы безгласни, всяко со тщаніемъ кротцƀ рабское иго ношахомъ, повинующеся имъ во страсƀ подобнƀ, честь страха ради творяще вмалƀ яко не равну зъ Богомь».
Что же нарушило эту московскую идиллию? Потрудитесь прочесть. «Восхотƀша бо обдержателе ушеса своя сладцƀ преклоняти къ ложнымъ шепотнымъ глаголомъ – яко же въ ветсƀмъ прабаба всƀхъ Евва змію любезнику подаде любезнƀ своя слуха, симъ вмалƀ и огорчися, абіе подъяше бо обще малжена бесчестное исъ породы изгнаніе, – лжевный же недугъ и горкій плевелъ тернія, посреди всего царствія взрастая, умножашеся и истинствующія пшеницы клаоы являя превосходя. Языки бо своими убиваху люди, яко мечи съ любленіемъ тƀхъ послушателей возношаху бо ся зƀло надъ правдою въ неявственныхъ своихъ похвалахъ державній же; и никакоже тƀхъ отщутиша, дондеже плодъ горести тоя пожаша и въ снопы связаша, якоже и въ хранилища имъ своя сихъ положите, тогда сихъ вкусу добрƀ уразумƀша»[405]. Итак, московские люди были верными рабами своих «обдержателей», пока те оставались добрыми господами. Но постепенно господа начали утрачивать свою доброту. Они стали преклонять «ушеса» к разного рода льстецам и доносчикам. Доносчиками посеяно было зло, породившее Смуту. Это опять – прекрасно знакомый нам взгляд московских людей: существование рабства естественно и даже угодно богу. Но плохо то, что рабовладельцы не всегда добры. Когда они становятся злыми, они нарушают божью волю, и тогда бог наказывает всю страну за грехи ее «обдержателей». Все это весьма просто. Французский дворянин Филипп По, – рассуждения которого приведены были выше, – находил нужным изложить своим товарищам-депутатам все, что было узнано им от великих людей и от мудрецов о власти ГенеральныхШтатов. Для усвоения взглядов, подобных тому, который встречаем мы в сочинении московского дьяка Ивана Тимофеева, не было никакой надобности в помощи мудрецов и великих людей. Московские головы могли усваивать их без малейшего напряжения. Заслуживает внимания взгляд Тимофеева на то, как следует писать историю. Он говорит, что о настоящих, – «первосущих», – царях не удобно «писанми износите неподобная, иже въ жизни си аще и безмƀстно что сотвориша и погрƀшно; но развƀ что добротно къ сихъ славƀ, къ чести же и къ похвалƀ, се достояше уяшняти, единою сполагати въ писаніохъ будущимъ ревнителемъ въ память»[406]. Осуждать «обдержателей» историк не должен потому, что их дурные дела судит «един Бог». Правда, сам Тимофеев не всегда придерживается этого рецепта. Да и крайне трудно держаться его, повествуя о подвигах Ивана IV Васильевича. Но все-таки рецепт, придуманный московским дьяком XVII века, не без успеха применялся у нас впоследствии и применяется доныне многими составителями учебников по русской, – а иногда и не только по русской, – истории...
XII
Из всего сказанного опять никак не следует, что население Московского государства XVII века было довольно своей печальной судьбой. В этом веке его тяглые люди часто и сильно волновались. Но мы скоро увидим, что в волнениях
своих они обнаруживали такую же политическую неразвитость, как и в своих пьяных спорах. Царским холопам тоже, как известно, немного радости давала их вековечная и жестокая служебная лямка. Князь Иван Голицын сказал однажды польским послам: «Русским людям служить вместе с королевскими людьми нельзя ради их прелести, – одно лето побывают с ними на службе и у нас на другое лето не осганется и половины лучших русских людей»[407]. Без сомнения, князь выразился черезчур сильно. Невозможно предположить, чтобы московское дворянство так легко могло поддаться польскому соблазну. Но не спроста же говорил он. Повидимому, с течением времени между служилыми людьми Московского государства действительно стала распространяться та мысль, что служба польскому королю много легче и приятнее службы московскому государю. При всем том они были слишком бессильны в социальном отношении и слишком неразвиты в политическом, чтобы задумываться о перенесении каких-нибудь западных «вольностей» на московскую почву. Еще при Годунове худородные служилые люди говорили: «Велик и мал живет государевым жалованьем». При новой династии, обязанной своим возвышением преимущественно усилиям дворянства, принцип этот окончательно восторжествовал в государственном управлении, и, конечно, не московские служилые люди могли бы возразить что-нибудь против него по существу. Как поместное сословие, дворянство слишком заинтересовано было в незыблемости постепенно утвердившегося на московской почве восточного абсолютизма. По социальному и политическому положению своему боярство никогда не могло сочувствовать этому принципу. Оно долго сопротивлялось его практическому осуществлению. Но боярское сопротивление было пассивным, и в боярской среде Московского государства тоже никогда не цвела политическая мысль[408]. При выборе новой династии высший боярский слой не решился выставить открыто свои политические притязания, удовольствовавшись закулисной интригой. Плодом интриги была «запись» Михаила. Но «запись» осталась клочком бумаги. Она не могла вернуть невозвратное. Когда Шакловитый уговаривал стрельцов просить царевну Софью венчаться на царство, он между прочим сказал им, что не надо опасаться бояр: «это зяблое, палое дерево»[409]. Однако, утратив свое влияние, московское боярство еще не утратило охоты иметь его. В царствование Федора Алексеевича его высшие представители попытались обеспечить себе влиятельное положение в государстве посредством новой закулисной интриги. «Палатные бояре» выработали проект, согласно которому в Новгороде, Казани, Астрахани, Сибири и других местах учреждались «вечные» царские наместники из «великородных
боляр» с титулом этих областей. Проект судил соответственное расширение власти и высшим представителям духовенства. Слабый Федор, одной ногой уже стоявший в гробу, «на сіе дƀло изволилъ». Однако, эта новая закулисная интрига разрушилась, столкнувшись с другой закулисной интригой. Патриарх Иоаким уговорил царя не исполнять обещания, данного «палатскимъ подустителямъ», намерения которых грозили, по его словам, ослабить «самодержавство» и разорить единовластие[410]. Московское духовенство но пошло на боярскую приманку: оно было одной из самых надежных опор самодержавной власти. Правда, патриарх преувеличил опасность. При московских условиях «палатские подустители» не принесли бы серьезного вреда «самодержавству». То, что дал бы им умиравший Федор, без труда взял бы назад один из его наследников, – особенно такой энергичный, как Петр. Но совершенно верно то, что институт несменяемых наместников несогласим ни с абсолютизмом вообще, ни с тем его видом, который Бодэн называл вотчинной монархией, а Олеарий обозначал словами: monarchia dominica et despotica. Борясь с палатскими «подустителями», патриарх Иоаким показал, что он умел делать правильные выводы из данных историей посылок. Но нам уже известно, что неясное и непоследовательное во всех других случаях политическое мышление московских людей становилось ясным и последовательным, когда оно направлялось на защиту безграничных прав верховной власти.
XIII
Ключевский назвал XVII век эпохой народных мятежей в нашей истории. Мятежей, действительно, было тогда много, особенно в царствование Алексея[411]. Но что же узнаем мы из них о политическом настроении народной массы? «В этих мятежах, – отвечает только-что цитированный мною историк, – резко вскрылось отношение простого народа к власти, которое тщательно закрашивалось официальным церемониальным и церковным поучением; ни тени не то что благоговения, но и простой вежливости и не только к правительству, но и к самому носителю верховной власти»[412]. С этим нельзя согласиться. События говорят не то. В мае 1648 года московский народ, требуя выдачи Морозова и Траханьотова, заявлял, что он не жалуется на царя, а только на людей, «ворующих» его именем. Когда, во время крестного хода, Алексей Михайлович со слезами на глазах уговаривал своих возмутившихся москвичей не настаивать на обещанной им выдаче Морозова, в ответ ему раздались крики: «Да здравствует государь на многия лƀта!
Да будет воля Божія и государева!» Означают ли такие заявления и такие крики, что жители Москвы но только не питали благоговения к носителю верховной власти, но просто были невежливы с ним? Нисколько! И во всяком случае эти их слова означают, что они относились к царю с полным доверием. Когда религиозный человек говорит: «да будет воля божия и государева», это показывает, что в его отношении к государю присутствует тот же элемент благоговения, с которым он относится к богу. Даже на западной окраине, во время волнений в Новгороде и Пскове, недовольные распоряжениями начальства посадские люди повторяли: «Государь этого не знает». Отсюда опять видно, что бунтовщики, – гилевщики, как их тогда называли, – доверчиво относились к царю. Правда, потом в их среде скоро начали раздаваться иные речи. Они стали поговаривать: «Государь объ насъ не радƀетъ». Но, энергично сопротивляясь распоряжениям царских воевод, «гилевщики» обещались «стоять всƀмъ заодно за государя». Они продолжали смотреть на него как на воплощение всего государства[413]. В грамоте, тайно отправленной в Москву и поданной боярину Н. И. Романову, псковичи пред᾽явили московскому правительству чрезвычайно умеренные требования: они просили, чтобы впредь воеводы и дьяки судили с земскими старостами и с выборными людьми по правде, а не по мзде и посулам, и чтобы псковичей избавили от обязанности ездить на суд в Москву[414]. Таким образом, «бунташное время» выдвигает перед нами то же самое социально-психологическое явление, которое мы уже имели случай наблюдать, изучая состояние мысли в высших классах Московского государства. Недовольные добиваются не изменения социально-политического устройства, а только новых, менее тяжелых для данного общественного класса или слоя, приемов государственного управления. Историки об᾽ясняют обилие народных волнений в царствование Алексея Михайловича тем, что Смутное время отучило московский народ от пассивного подчинения власти. По всей вероятности, они правы. Но если они правы, то тем более замечателен тот факт, что, даже отвыкнув пассивно подчиняться властям, московский народ отнюдь не выдвигал таких требований, которые хоть немного шли бы вразрез с основами «вотчинной монархии».
XIV
Некоторые иностранные писатели называют Смутное время трагедией (tragedia moscovitica). Называя его так, они вряд ли вполне сознавали, до какой степени оно было удачно. «Великая разруха» преисполнена трагизма. Ее трагизм заключается в том, что народ, недовольство которого вызвало страшное потрясение
московского социально-политического строя, по тогдашним условиям не имел об᾽ективной возможности заменить этот строй каким-нибудь новым, менее обременительным для него порядком. Это отсутствие об᾽ективной возможности устранить старый, для всех обременительный, порядок и нашло свое суб᾽ективное выражение в том, что участники волнений не выдвигали каких-нибудь новых социально-политических требований. По выражению Ключевского, они искали личных льгот, а не сословных обеспечений. Поэтому, когда служилый класс, посадские люди и отчасти черносошные северные крестьяне, выведенные из терпенья «литовскими людьми» и русскими «ворами», взялись за восстановление социально-политического порядка, они восстановили, – и непременно должны были восстановить, – его в старом виде, т.-е. в том самом его виде, недовольство которым и вызвало Смуту. У тогдашних московских людей не было другого выхода. Этот трагизм безвыходности превосходно характеризуется следующим «бытовым явлением». Правительство царя Михаила отправило некоего Андрея Образцова для сбора податей на Бело-Озеро. Там еще возобновлялись иногда набеги литовских людей. Подати поступали туго, за что Образцову был от имени царя послан выговор. Но он не признавал за собой никакой вины, так как находил, что им сделано-было все человечески возможное в борьбе с набегами. «Я, государь, – писал он, – посадским людям не норовил и сроков не даю; пока не было вестей о литовских людях, то я правил на них твои государевы всякие доходы нещадно, побивал на смерть; а теперь, государь, на посадских людях твоих денег править нельзя, в том волен ты, государь; а я, холоп твой, блюдясь приходу Литовских людей, беспрестанно днем и ночью стою с посадскими людьми по острогу и рассылаю их на сторожи»[415]. Посмотрите же. Когда приходят литовские грабители, посадские люди ополчаются на них под предводительством своего воеводы и усердно чинять над ними промысел «днем и ночью». Им иначе поступить нельзя: литовские грабители, подкрепляемые московскими «ворами», отнимают у них имущество и самую жизнь. А когда им удается прогнать литовских людей и усмирить московских «воров», местный воевода открывает заседание в приказной избе и отбирает у них, для наполнения государевой казны, только-что спасенное общими усилиями имущество. При этом он показывает так много усердия на царской службе, что, по его собственному признанию, побивает некоторых из них на смерть. Как быть? Возмутиться против слишком старательного служилого человека? Смута показала московским людям, что в конце-концов это вовсе не так трудно, как они думали в доброе старое время. Но та же Смута привела их к тому печальному убеждению, что, прогоняя от себя царских воевод, они очень сильно рисковали сделаться жертвой еще болео беспощадных грабителей. Из двух зол они выбирали меньшее. Однако, выбрав меньшее зло, они находили, что, в абсолютном смысле, оно все-таки очень велико. И они не ошибались: бюрократическое усердие Андреев Образцовых
не могло дать им ничего хорошего. Если об᾽ективные условия лишали их возможности побороть или хотя бы только уменьшить зло собственными силами, то им оставалось лишь искать помощи на стороне. И они искали ее в той же Москве, откуда приезжали к ним Андреи Образцовы. Это может показаться странным; но это было так: они надеялись, что о подвигах этих служилых людей «государь не знает». Тут они ошибались. Так, например, Москва прекрасно осведомлена была о человекоубийственных подвигах усердного воеводы Образцова. Но не подлежит сомнению, что, закрепощая трудящуюся массу, правительство было заинтересовано в устранении таких злоупотреблений, вследствие которых она окончательно утратила бы способность нести свое тягло. Меры, которые правительство принимало в этом направлении, редко достигали своей цели. Однако, оно принимало их и тем самым поддерживало в народе ту отрадную для него мысль, что центральная власть заботится об его благе. В 1620 году из Москвы была разослана такая грамота: «Извƀстились мы, что въ городахъ воеводы и приказные люди наши всякія дƀла дƀлаютъ не по нашему указу, монастырямъ, служилымъ, посадскимъ, уƀзднымъ, проƀзжимъ всякимъ людямъ чинятъ насильства, убытки и продажи великiе, посулы, поминки и кормы берутъ многіе. Великій государь, посовƀтовавшись съ отцомъ своимъ, приговорилъ съ боярами: послать въ города къ воеводамъ и приказнымъ людямъ нашимъ грамоты, чтобъ они насильства и продажъ не дƀлали, посуловъ, поминковъ и кормовъ не брали... а если въ которыхъ городахъ воеводы станутъ дƀлать не по нашему указу, и будутъ на них челобитчики, то мы велƀли взять на нихъ все вдвое; да имъ же быть отъ насъ въ великой опалƀ»[416]. Достаточно было тяглым людям данной местности ознакомиться с содержанием хотя бы одной подобной грамоты, чтобы вопрос: «совершается ли это по государеву указу?» возникал у них каждый раз, когда царские слуги делали то или другое обременительное для народа распоряжение.. И вполне естественно, что в каждом таком случае они склонны были думать, что их притесняют вопреки государеву указу. Ошибаются исследователи, полагающие, что московское правительство XVII века совсем не заботилось об участи крепостных крестьян. Оно и здесь держалось своей обычной политики. Неуклонно расширяя права землевладельцев на крестьянский труд, оно, по мере возможности, заботилось о том, чтобы крестьянство не подвергалось полному разорению. Котошихин категорически говорит, что когда боярам и иным чинам давались населенные земли, им предписывалось не слишком обременять опять своих новых подданных работой и поборами, «чтоб тем мужиков своих из поместий и из вотчин не разогнать и в нищие не привесть». Владельцам, не считавшимся с этим предписанием, правительство грозило чувствительным возмездием. «И у таких помещиков и вотчинников, – продолжает тот же писатель, – поместья их и вотчины, которые даны будут от царя, возмут назад на царя, а что он с кого имал каких поборов через силу и грабежем, и то из нем велят взять и
отдать тем крестьянам; а впредь тому человеку, кто так учинит, поместья и вотчины не будут даны до веку». Это еще не все. Государство стремилось оградить от обнищания не только помещичьих крестьян. У Котошихина прямо сказано: «А будет кто учнет чинить таким же обычаям над своими вотчинными купленными мужиками: и у него тех крестьян возмут безденежно, и отдадут сродственникам его, добрым людем, безденежно ж, а не таким разорителям»[417]. На основании этих интересных свидетельств можно заключить, что как ни плохо было положение крестьян в Московском государстве XVII в., но власть над ними их владельцев еще не имела той полноты, какой постепенно достигла она в течение «просвещенного» XVIII столетия. Однако, здесь для нас важна лишь социально-психологическая сторона вопроса. Совершенно ясно, что крестьяне не могли не знать о существовании предписаний, подобных вышеприведенному. И не менее ясно, как именно должны были влиять подобные предписания на их психологию. Неся тяжелое иго крепостной зависимости, крестьяне утешали себя тою мыслью, что у них есть в Москве защитник, который, в случае крайней нужды, уже теперь придет к ним на помощь, а совремонем, может быть, и совсем освободит их. Когда Посошков писал впоследствии, что помещики крестьянам не вековечные владельцы, он, – сам принадлежавший к крестьянскому сословию, – выражал ту же мысль. Мы знаем, что она не выходила из крестьянских голов вплоть до 1861 года и даже пережила его, так как «воля», данная 19 февраля, казалась им не «настоящей».
XV
Грамоты, выражавшие заботу московского правительства о положении тяглой массы, составлялись очень искусно. Бюрократия еще не научилась тогда говорить таким русским языком, который не больше понятен нашему народу, чем китайский. «Пишем мы к вам, – продолжает грамота, цитированная мною выше, – милосердуя о вас, чтоб вы, Божиею милостью и нашим милостивым призрением, жили в покое и тишине, от великих бед и скорбей поразживались, тесноты бы вам, продажи и никаких других налогов не чинилось, и во всем бы на наше царское милосердие были надежны». Легко представить себе, какое впечатление производили на народ подобные обращения к нему центрального правительства. Они делали непоколебимым то его убеждение, что царские воеводы притесняют его без ведома государя. В жалованных грамотах городам говорилось, что царь велел приказным своим людям оборонять их от бояр своих и от всяких людей. Конечно, посадские люди никак не могли поверить, что приказные захотят добросовестно охранять их от боярских притеснений: им слишком хорошо были известны нравы «крапивного семени». Но если хорошие распоряжения центральной власти не исполнялись благодаря приказным, то народ винил в этом только приказных и тем с большим упованием смотрел на своего «надежу-государя». Вот почему, возставая
против царских слуг, тяглое население Московского государства отнюдь не было расположено восставать против царя. Это заметил еще Олеарий[418]. И это же, пожалуй, еще лучше Олеария, заметили «воровские» казаки, тогдашние специалисты по части бунтов. Сами они действительно имели мало благоговения к высшему представителю центральной власти. «Скажи воеводе, – говорил Стенька Разин служилому человеку, явившемуся к нему от астраханского воеводы, – скажи воеводе, что я его не боюсь, не боюсь и того, кто повыше его». И он же хвалился, что возьмет Москву и сожжет все бумаги «въ верху», т.-е. в государевом дворце. Но тот же Разин, собираясь итти вверх по Волге, об᾽являл, что он идет только против бояр; царским стрельцам его сподвижники говорили: «Вы бьетесь за изменников, а не за государя, а мы бьемся за государя». В войске Разина был самозванец, Максим Осипов, выдававший себя за царевича Алексея[419]. Отсюда видно, как представляли себе «воровские» казаки отношение тяглой массы к государю. Ключевский говорит, что в эпоху Смуты самозванство сделалось стереотипной формой русского политического мышления, в которую отливалось всякое общественное недовольство[420]. Указанная тактика сподвижников Разина убеждает нас в том, что самозванство не перестало быть такой формой и во второй половине XVII века. А какую роль сыграло оно в следующем столетии, это мы все знаем из истории Пугачевского бунта. Но почему же русское политическое мышление отлилось в форму самозванства? Именно потому, что оно было крайне мало развито. Тяглая масса Московского государства, подвергавшаяся притеснениям от царских слуг и временами восстававшая против них, сохраняла веру в царя как в своего естественного защитника. Впоследствии этот взгляд распространился по лицу русской земли далеко зa пределы Великороссии. Только широким распространением об᾽ясняется известная чигиринская попытка южно-русских «бунтарей» Стефановича и Дейча, имевшая место во второй половине семидесятых годов XIX века[421]. Для центральной власти, старавшейся положить известные пределы аппетитам служилого сословия, вопрос был в том, чтобы не слишком уменьшалась та часть прибавочного труда тяглых людей, которая непосредственно шла на
удовлетворение государственных потребностей. В этом отношении его интерес сходился с интересом трудящейся массы, нередко и довольно настоятельно требовавшей, чтобы «все было государево». Это совершенно согласно со складом общественных отношений в восточных деспотиях, где трудящейся массе, осужденной на безвыходную крепостную зависимость, в лучшем случае остается только выбирать между различными родами этой зависимости и где она чаще всего предпочитает зависимость от центральной власти. Но иногда борьба с произволом служилых людей наводила трудящуюся массу даже вХVII в. на ту мысль, что самоуправление гораздо выгоднее для нее, нежели бюрократическая «волокита», и тогда обнаруживалось резкое противоречие между желанием народа, с одной стороны, и тенденциями восточной монархии – с другой. Как ни умеренны были бунтовавшие псковичи в своих требованиях, они получили резкий отказ от московского правительства. Алексей Михайлович отвечал им: «Холопи наши и сироты намъ великимъ государямъ никогда не указывали, и вамъ надо было бить челомъ до нынƀшняго смятенія, а самимъ не управляться». Тишайший царь имел свой, совершенно определенный, взгляд на вопрос об участии народа в управлении государством. «При предкахъ нашихъ никогда не бывало, – сказал он, – чтобъ мужики съ боярами, окольничими и воеводами у расправныхъ дƀлъ были, и впередъ того не будетъ»[422]. Скромные псковские челобитчики, которым позволено было видеть царские очи, могли бы возразить, что даже самый грозный из «предков» Алексея Михайловича, – Иван IV Васильевич, – нашел нужным дозволить «мужикам» быть у расправных дел. Но со времени Ивана Грозного много воды утекло под московскими мостами: вотчинная монархия ушла далеко вперед в процессе развития свойственных ей социально-политических отношений. И то, что в XVI веке допущено было кровожадным тираном, в XVII показалось недопустимым даже тишайшему «обдержателю»: так мало зависела об᾽ективная логика вещей от личных свойств государей.
XVI
По мнению Ключевского, в Москве «общество не представляло безразличной массы, как в восточных деспотиях, где равенство всех покоится на общем безправии. Общество расчленено, делится на классы, сложившиеся еще в удельные века»[423]. Но, вопреки этому мнению, ни в одной восточной деспотии общество не представляло безразличной массы. В каждой из них оно было более или менее расчленено; в каждой из них оно делилось на классы. И все они имели ту общую черту, что, несмотря на расчленение и деление, их жители уравнивались между собой своим бесправием по отношению к государю: богдыхану, фараону, шаху, султану и т.п. И как-раз эта черта свойственна была Московскому государству. Неудивительно, что восточному складу его внутренних отношений соответствовали и свойственные восточным монархиям политические понятия его населения.
Говоря о «вежливости» в народных движениях, – как это делает Ключевский, – полезно выяснить себе, что собственно надо понимать под нею. Спора нет, «невежливо» поступили московские «гилевщики» в мае 1648 года, схватившие за узду лошадь царя, желая добиться от него отставки Леонтия Плещеева. Так же мало «вежливости» проявили и те волновавшиейся тяглые люди, которые, придя в Коломенское в июле 1662 года, помешали Алексею Михайловичу, праздновавшему рождение своей дочери, дослушать обедню и, держа его за пуговицы, требовали, чтобы он расправился с изменниками. Наконец, верхом «невежливости» было то, что в ответ на его обещания они скептически спрашивали: «чему верить?» и успокоились только тогда, когда заставили царя побожиться и ударить с ними по рукам. Государевы сироты вообще не имели возможности усвоить себе по-тогдашнему вежливые придворные манеры царских холопов. Но это не мешало им быть самыми горячими сторонниками и самыми решительными защитниками неограниченной царской власти. Кроме того, следует принять в соображение еще вот что. Московские «гилевщики» вели себя в XVII веке так же, как и «гилевщики» XVI столетия. В апреле 1547 года они убили родного дядю царского, М. В. Глинского, а потом пошли к молодому царю в село Воробьево требовать, чтобы он выдал им свою бабку, княгиню Анну Глинскую, и ее сына, которых он прятал у себя в покоях. Тут тоже очень мало «вежливости». Достойно замечания, что эта манифестация перед царским загородным дворцом прекращена была такими же мерами, какие приняты были впоследствии против «гилевщиков», приходивших в Коломенское к царю Алексею; по распоряжению Ивана она была разогнана вооруженною силой. Разница только в том, что коломенская манифестация обошлась народу дороже, нежели воробьевская. Но те же самые «гилевщики», которые держали царя Алексея за пуговицы и говорили, что он еще глуп и смотрит из рта бояр, с исконнейшим негодованием восстали бы против служилого класса, если бы услыхали о каких-нибудь попытках его ограничить самодержавие. Служилый класс прекрасно знал это. Его холопски-»вежливое» отношение к царям в значительной степени подсказывалось ему этим настроением народа. И этим же настроением об᾽ясняется то замечательное явление, что боярские попытки взять с царей те или другие «записи» в действительности ни к чему не приводили. «Надобно читать принадлежащее горожанину Псковское сказание о Смутном времени и о царствовании Михаила Федоровича, – говорит Соловьев, – чтобы узнать все нерасположение горожан к поступку бояр относительно записи, обеспечивавшей интерес боярский»[424]. А между тем именно горожане-то и волновались, именно они-то и показали себя «невежливыми» в «бунташное время» конца 40-х и начала 50-х годов XVII века. Что касается «благоговения», то известно, что оно на разных ступенях культурного развития принимает разные виды. Так, оно не мешает варварам очень «невежливо» обращаться со своими божками в минуты раздражения. Однако,
из того, что раздраженный варвар иногда сечет своего божка, вовсе не следует, что он считает себя способным обходиться без его помощи. Напротив, раздражение варвара вызывается именно тем, что он не видит никакой возможности защитить себя без помощи божка: побои имеют целью возбудить добрую волю этого последнего. «Бунташное» время нисколько не поколебало, – ни в посадах, ни в деревнях, – традиционного отношения московского народа к верховной власти. Чтобы поколебать его, недостаточно было распространявшихся между «гилевщиками» слухов о том, что царь по своей слабости или неопытности мирволит служилым людям. Как увидим ниже, оно немного заколебалось под влиянием раскола. Но очень немного. В сущности, оно и тогда совсем не изменило своей природы. Трудящееся население Франции, восставая против ненавистного ему соляного налога, кричало: «Vivе le roi sans gabelle!» (Да здравствует король без соляной подати!). В течение долгого времени оно, страдая от нестерпимой парижской «волокиты» и возмущаясь ею, утешалось тем соображением, что «дурен не король, а его министры». И пока оно угощало себя такими соображениями, могло, пожалуй, казаться, что во Франции трудящийся люд смотрит на верховную власть теми же самыми глазами, какими он смотрит на нее в Московском государстве. Действительно, и тут и там его представление о ней складывалось из одинаковых психологических элементов. Но вследствие уже известных нам различий в социальном составе и в социально-политическом строении этих двух государств одинаковые психологические элементы сочетались во Франции и в Московской Руси в такие политические представления, которые оставались различными даже тогда, когда на первый взгляд казались одинаковыми. Излюбленные московские люди, сражавшиеся на Земский Собор, никогда не возвышались до того distinguo, которое так часто встречается в речах депутатов французских Генеральных Штатов. Они не говорили, что иное дело усердный холоп, а иное дело верный подданный. Сообразно с этим и французской трудящейся массе было несравненно легче доразвиться до понимания того, что когда дурны министры, то в этом надо винить если не короля, как личность, то абсолютную монархию, как учреждение. На этот счет не оставляют ни малейшего сомнения события конца XVIII века.
Глава VII Поворот к западу
I
В течение столетия, следовавшего за Смутой, внутренние отношения Московского государства все более и более принимали тот характер, которым отличались великие деспотии Востока. Такой ход развития общественного бытия непременно должен был отразиться на ходе развития общественного сознания. И мы, в самом деде, убедились, что политические понятия московских людей того времени получили яркий восточный оттенок. Но в течение того же времени совершался сначала весьма медленный, а затем все более быстрый поворот Московского государства к Западу[425]. Этот поворот тоже не мог не отразиться на ходе развития русской общественной мысли. Известно, что борьба противоположных влияний в области умственного развития данной страны всегда вносит в эту область более или менее значительный элемент драматизма. Мы увидим сейчас, что история общественной мысли Московской Руси XVII века не лишена этого элемента. Но для того, чтобы лучше выяснить себе общественно-исторические условия той борьбы двух противоположных влияний, которая совершалась в умственной области, полезно будет еще раз остановиться на вопросе о том, почему Московская Русь стала поворачивать к Западу как-раз в такое время, когда она, по характеру своих внутренних отношений, более чем когда-нибудь сблизилась и продолжала сближаться с Востоком, т.-е. когда она, казалось бы, должна была все менее и менее интересоваться Западом. Недавно этот важный вопрос вновь был поднят, – хотя и в иной формулировке, – нашим известным историком М.Н.Покровским. Он утверждает, что многие из его предшественников держались неуместной в данном случае педагогической точки зрения: «Россия начала учиться у Запада, потому что сознала, наконец, пользу просвещения. Русские стали ездить за границу (при этом всегда рассказывалось несколько анекдотов, показывающих, какие они тогда были смешные), иностранцы стали ездить в Москву – так как речь шла о просвещении, то из иностранцев на первый план выдвигались врачи, аптекаря, художники и техники всякого рода; мало-по-малу началось «культурное взаимодействие», благополучно приведшее при Петре к тому, что московские дикари, сбрив волосы, естественно
росшие у них на подбородке, увеличили запас волос на голове большой искусственной накладкой, в виде кудрявого, волнистого парика. В то же время они построили флот и завели сначала элементарные школы, а потом и Академию наук, после чего в Россию стали приезжать не только аптекаря и врачи, но и светила европейской науки»[426]. Заранее предупреждая тот упрек, что он вдается в карикатуру, М.Н.Покровский советует своим читателям заняться изучением многочисленных писаний покойного Брикнера, в сочинениях которого «обширный – и иногда очень ценный – фактический материал об᾽единен именно с этой точки зрения». Он прибавляет, что даже Соловьев «не очень далеко ушел от этого наивного школярства». Остановимся пока на этом предварительном критическом замечании М.Н.Покровского. Как следует назвать тот взгляд, согласно которому одна страна начинает учиться у другой по той простой причине, что убеждается в пользе просвещения? Это – типичпый взгляд просветителей XVIII века, взгляд исторического идеализма. Выходит, стало быть, что многие писатели, исследовавшие вопрос об европеизации России, были идеалистами. Это совершенно справедливо. Справедливо, в частности, и замечание об А.Брикнере; он до конца дней своих держался идеалистической точки зрения, и можно сказать, что у него она становилась подчас точкой зрения «наивного школярства»[427]. Впрочем, мы увидим, что, описывая ход европеизации России, сам Брикнер не всегда в состоянии был оставаться последовательным идеалистом. Соловьев же, – часто тоже платавший обильную дань историческому идеализму, – именно в вопросе об европеизации России, вопреки мнению М.Н.Покровского, очень далеко ушел от «наивного школярства» просветителей. Он писал: «Русский народ, после восьмивекового движения на Восток, круто начал поворачивать на Запад; поворота, нового пути для народной жизни, требовало
банкротство экономической и нравственное»[428]. Уже эти строки недвусмысленно показывают, что наиболее глубокой причины поворота русского народа от Востока на Запад Соловьев искал в его экономических нуждах. Стараться об᾽яснить экономическими нуждами данного народа важнейшие, – поворотные, – эпохи его истории не значит грешить историческим идеализмом. Конечно, он указывал также и на нравственное банкротство Московского государства. Но ведь его невозможно отрицать. А, кроме того, заметьте, что «банкротство экономическое» отмечается Соловьевым прежде банкротства нравственного. Мы имеем право заключить отсюда, что в своем исследовании процесса европеизации России он был близок к тому пониманию истории, согласно которому не сознание определяет собою бытие, а бытие определяет собою сознание. По всей вероятности, он сам не давал себе ясного отчета в том, в какой мере приблизился он к этому пониманию. Да и нет у нас основания думать, чтоб он был знаком с теорией исторического материализма. Но все-таки несправедливо обвинять его в идеализме там, где он, хотя бы и бессознательно, покидал идеализм и приближался к материалистической точке зрения.
II
Правда, М.Н.Покровский сам признает, что скоро русские историки перестали довольствоваться уподоблением Московской Руси гимназическому классу и увидели себя вынужденными искать конкретных, осязательных корней европеизма в московской почве». Но и эти поиски он считает весьма неудачными. «Об᾽ективная необходимость переворота впервые была демонстрирована как необходимость военно-финансовая. Россия должна была стать Европой потому, что иначе она не могла бы выдержать конкуренции с европейскими государствами: так можно вкратце резюмировать новую схему. Внимательный читатель уже уловил, что в этой схеме осталось от чичеринско-соловьевской метафизики. Заранее предполагалось, что Россия для чего-то должна существовать, что в этом одна из целей мирового процесса. Но пока план этого последнего нам не известен, и есть даже большие основания сомневаться в самом существовании этого плана, об᾽яснение висит в воздухе. Оно напоминает известную тавтологию. Россия уцелела потому, что сумела стать Европой, а Европой она стала для того, чтобы уцелеть: опиум усыпляет потому, что он обладает усыпительной силой, а не будь в нем этой усыпительной силы, он не был бы опиумом»[429]. Признаюсь, что рассуждение почтенного ученого кажется мне мало убедительным. Он вполне справедливо полагает, что у нас есть большие основания сомневаться в существовании какого-то плана мирового процесса. Но отсюда еще не следует,что «висит в воздухе» об᾽яснение европеизации России указанием на военно-финансовую необходимость. Этого мало. Вовсе не тавтология была той логической ошибкой, которая угрожала в данном случае историкам. Из того, как изображает дело сам М.Н.Покровский, очевидно, что им угрожал так-называемый
порочный круг (irculus yitiosus). В этой логической ошибке, – существенно отличной от тавтологии, – мы имели бы право упрекнуть их, если бы рассуждали так: «Россия уцелела потому, что сумела стать Европой, а Европой она стала потому, что уцелела». Но ведь, по словам нашего автора, они рассуждали совсем иначе. Они говорили: «Россия уцелела потому, что сумела стать Европой, а Европой она стала для того, чтобы уцелеть». Два предложения, соединенные здесь между собою частицей «а», так же далеки по своему содержанию от порочного круга, как, например, два следующих: Джиованни уцелел потому, что покинул Мессину раньше землетрясения, а покинул он ее для того, чтобы уцелеть. Другими словами: Джиованни предвидел катастрофу и, опасаясь гибели, удалился из Мессины. Если я скажу так, то читатель будет иметь право спросить меня: в самом ли деле Джиованни предвидел землетрясение? И мог ли он предвидеть его при данных условиях? Это будут questiones facti, решение которых потребует подробного изучения предмета. Может быть, изучение обнаружит мою ошибку, может быть, окажется, что Джиованни покинул Мессину с другою целью и что вообще в то время, когда он покидал ее, невозможно было предвидеть катастрофу. Но если бы даже я и ошибся по отношению к факту, то читатель не имел бы ни малейшего права сказать, что я погрешил против логики. Не погрешили против нее и те историки, которые об᾽ясняли европеизацию России военно-финансовой необходимостью. Здесь тоже можно поставить только вопросы о фактах: была ли на-лицо названная необходимость? И достаточно ли было ее наличности, чтобы Московская Русь повернула к Западу? Мы сейчас займемся этими вопросами. Но предварительно следует заметить еще вот что. По словам М.Н.Покровского, Соловьев вместе с Чичериным искал спасения от «наивного школярства» в «туманной метафизике». И, без сомнения, вдался бы в «туманную метафизику» тот историк, который сказал бы, что существование России составляет одну из целей мирового прогресса. Но Соловьев этого не говорил. Он указывал лишь на то, что Московская Русь усваивала западно-европейскую технику, желая отстоять свое существование. В этом я не вижу ни метафизики вообще, ни туманной метафизики в особенности. Конечно, и тут возможно сомнение насчет фактов. Можно спросить: точно ли находила Московская Русь нужным отстаивать свое существование? Но этот вопрос очень просто решается, помимо общих соображений, ссылкой на всем известные обстоятельства. Достаточно вспомнить эпоху Смуты, кстати сказать, очень близкую к тому времени, когда начался интересующий нас здесь процесс европеизации России. Вот что писали, например, ратные и земские люди Нижнего-Новгорода в грамоте к другим городам: «По Христову слову, встали многие лжехристи, и в их прелести смялась вся Земля наша, встала междоусобная брань в Российском государстве, и длится немалое время. Усмотря между нами такую рознь, хищники нашего спасения, Польские и Литовские люди, умыслили Московское государство разорить, и
Бог их злокозненному замыслу попустил совершиться. Видя такую их неправду, все города Московского государства, сославшись друг с другом, утвердились крестным целованием – быть нам всем православным христианам в любви и соединении, прежнего междоусобия не начинать, Московское государство от врагов очищать» и т.д.[430]. Люди, писавшие и рассылавшие эту грамоту, были, как видим, твердо убеждены в том, «что Россия для чего-то должна существовать» как независимое государство. И нетрудно догадаться, для чего именно. Для того, чтобы ее жители, – т.-е. между прочим те самые, которые писали подобные грамоты, рассылали их или сочувственно внимали им, – не терпели притеснений от чужестранцев и не подвергались разорению со стороны своих собственных «воров». А раз у них было такое убеждение, подсказанное как нельзя более естественным желанием жить, то нам нет ни малейшей надобности апеллировать к «целям мирового процесса», – в самом деле, гораздо более чем сомнительным, – для того, чтобы выяснить значение военно-финансовой необходимости в ходе культурного развития России. Всего вероятнее, что у огромного большинства московских людей, – даже тех классов, усилиями которых было восстановлено Московское государство, – убеждение в необходимости существования этого государства становилось ясным только в исключительных случаях, а в обыкновенное время оставалось за порогом сознания. Но у меньшинства их, – у тех, которые управляли страною, – указанное убеждение не могло не быть ясным даже в обыкновенное время: ведь их дело заключалось именно в том, чтобы бороться с опасностями, извне или изнутри грозившими государству.
III
Мы знаем, что уже Иван III приглашал в Россию иностранных мастеров. Если бы мы сказали, что он поступал так из любви к просвещению, то мы сделали бы ту методологическую ошибку, которую осмеивает М.Н.Покровский. Но мы так не скажем, потому что мы знаем от русских историков, какими «конкретными, осязательными» нуждами вызвана была любовь великого князя к просвещению. Благодаря русским историкам, нам известно, например, что сначала Иван III поручил постройку Успенского собора в Москве местным каменщикам, но те оказались неискусными, и здание рухнуло, когда начали сводить своды. Тогда, по совету своей жены Софьи, великий князь обратился в Венецию. Приехавший оттуда Аристотель Фиоравенти (или Фиораванти) удачно закончил постройку собора. Это ясно показывает нам, что итальянский мастер вызван был в Москву не вследствие неопределенной любви ее жителей к просвещению, а вследствие того, что ее правители встретились с «конкретной, осязательной» потребностью. Впадали ли в метафизику исследователи, указывавшие на такую потребность для об᾽яснения того, что московские великие князья стали обращаться к
иностранцам? Единственный возможный ответ гласит: в этом случае метод их был прямо противоположен метафизическому. Далее. Фиоравенти не только построил Успенский собор; он чеканил в Москве монету и лил пушки. Этой его деятельностью опять удовлетворялись такие государственные потребности, в указании на которые нет ровно ничего метафизического. Тут все как нельзя более «конкретно» и «осязательно». Московскому государству нужны были каменные постройки и пушки; ему нужна была монета; наконец, его «обдержатели» испытывали повременам нужду в медицинской помощи. И вот московское правительство вызывает из-за границы каменщиков «хитрых»; лекарей «добрых»; мастеров, умеющих «к городам приступать и из пушек стрелять», и т.п. Для обращения к иностранным мастерам необходимо было только одно предварительное условие: правительство должно было убедиться в том, что заграничные мастера «хитрее», а лекаря «добрее» московских. В этом же ему совсем нетрудно было убедиться; по этой части оно получало от жизни много наглядных уроков, за которые оно особенно дорого платило в случаях, относившихся к военному делу. В царствование Грозного Московская Русь одержала ряд очень важных побед на востоке и юго-востоке. Но когда Иван IV обратился против своих западных соседей, он сам оказался побежденным. Трудно ли было ему понять, что его поражения причинены были превосходством западной военной техники над московской? Я этого не думаю. Польский король Сигизмунд-Август писал английской королеве Елизавете: «Московский государь ежедневно увеличивает свое могущество приобретением предметов, которые привозятся в Нарву, ибо сюда привозятся не только товары, но и оружие, до сих пор ему неизвестное; привозят не только произведения художеств, но приезжают и сами художники, посредством которых он приобретает средства побеждать всех. Вашему величеству не безызвестны силы этого врага и власть, какою он пользуется над своими подданными. До сих пор мы могли побеждать ого только потому, что он был чужд образованности, не знал искусств. Но если нарвская навигация будет продолжаться, то что будет ему неизвестно?» Скажем ли мы, что, питая и выражая подобные опасения, Сигизмунд-Август вдавался в «туманную метафизику»? Мы скажем наоборот: он показал себя сообразительным практиком. Но мы прибавим, что по этой части московские государи не уступали ему в сообразительности. Если он опасатся, что, усвоив западную технику, они сделаются слишком могущественными, то они с своей стороны поняли, что усвоение этой техники было необходимо для увеличения степени их могущества. Вот на это и указывали Соловьев и другие историки того же направления. И поскольку они указывали на это, они были как нельзя более далеки от метафизики. Что военная «необходимость» вызывала мысль о преобразованиях, еще до того времени, когда власть досталась Петру, это очень хорошо видно из наказа, данного кн. В.В.Голицыну в царствование Федора Алексеевича и приводимого тем же Соловьевым: «Ведомо великому государю учинилось, что в мимошедших воинских бранях, будучи на боях с государевыми ратными людьми, неприятели
показали новые в ратных делах вымыслы, которыми желали чинить поиски над государевыми ратными людьми; для этих-то новомышленных неприятельских хитростей надобно сделать в государских ратях рассмотрение и лучшее устроение, чтобы иметь им в воинские времена против неприятелей пристойную осторожность и охранение, и чтоб прежде бывшее воинское устроение, которое показалось на боях неприбыльно, переменить на лучшее, а которые и прежнего устроения дела на боях с неприятелями имеются пристойны, – и тем быть без перемены»[431]. В то время, когда был писан этот наказ, московские люди должны были хорошо знать, что собственно западные «неприятели» могли научить их чему-нибудь новому в дело войны. И они внимательно смотрели на Запад. Но вот обстоятельства привели их в столкновение с Китаем, и в октябре 1687 года окольничий Ф.Головин, ведший с китайцами переговоры об Албазине, получил между прочим такое приказание: «Разведать подлинно и рассмотреть, каковы китайские люди к войне, какой у них бой, в каком числе, каким ополчением и строем ходят, и воинские промыслы чинят полевыми ль боями или водяными путями или приступами и осадами городов и крепостей, и к чему больше охочи и привычны, и на какой народ в воинских поведениях похожи»[432]. Едва ли возможно было внимательнее относиться к тогдашней «военной необходимости». В виду несомненного значения военной «необходимости», как источника преобразований Московской Руси, приобретает огромную научную ценность та мысль Ключевского, что реформа Петра, по своему первоначальному замыслу, направилась собственно к перестройке военных сил и к расширению финансовых средств государства и лишь постепенно расширила свою программу, причем «взбаломутила всю застоявшуюся плесень русской жизни, взволновала все классы общества»[433]. При ярком свете этой мысли становится очевидным, что Петровская реформа, с точки зрения исторического идеализма представлявшаяся чрезвычайно счастливой случайностью, от начала до конца направлялась об᾽ективной логикой социально-политической жизни. С «метафизикой» эта мысль не имеет ничего общего.
IV
В грамоте, данной известному Адаму Олеарию в 1639 году от имени царя Михаила, мы читаем: «Ведомо нам учинилось, что ты гораздо научен и навычен в астроломии, и географус, и небесного бегу, и землемерию и иным многим надобным мастерствам и мудростям: а нам, великому государю, таков мастер годен». Если принять в соображение, что уже за два года до этого официального признания важности наук «астроломии» и «географус» по указу того же государя было переведено с латинского сочинение по космографии, то у нас как-будто получится довод в пользу того мнения, что московские правители вызывали западных мастеров, повинуясь отвлеченной любви к просвещению. Однако, на самом деле это
было не так. Иностранных мастеров вызывали потому, что они были «годны» великим государям для удовлетворения известных практических нужд; а когда ближе познакомились с ними, то стали соображать, что они «хитрее» московских потому, что обладают известными научными сведениями. Соображали это московские «обдержатели» крайне медленно, туго, да и о науках имели такое темное представление, что сильно искажали их названия. Но все-таки кое-как соображали и потому начинали поговаривать об «астроломии» и заставляли переводить космографию. Отсюда еще очень далеко было до принятия серьезных мер для распространения в Московском государстве естественно-научных познаний[434]. Но это нам сейчас неинтересно. Здесь для нас, – как и в соображениях Ключевского о реформе Петра Великого, – важно указание на то, что не сознание определило собою бытие, а бытие определило собою сознание: известные «конкретные» нужды заставили московских правителей обратиться к иностранным мастерам, а более близкое знакомство с этими последними убедило, – если убедило, – их, что Московскому государству нужны также и теоретические сведения. Этим указанием мы обязаны таким исследователям, как Соловьев. Зачем же попрекать их «метафизикой» там, где они поворачиваются к ней спиной? А если уж попрекать «метафизикой» за указание на военно-финансовую необходимость, то следует направить этот упрек также по адресу по крайней мере одного из двух основоположников исторического материализма, именно Фридриха Энгельса. Вот что говорил он о влиянии Крымской войны на внутреннюю жизнь нашего отечества: «Война доказала, что Россия, даже с чисто военной точки зрения, нуждается в железных дорогах и крупной промышленности. Правительство принялось поэтому заботиться о размножении класса капиталистов... Новая крупная буржуазия старательно выращивалась в тепличной атмосфере железнодорожных привилегий, покровительственного тарифа и всяких других преимуществ. Всем этим как в городах, так и в деревнях была произведена полнейшая социальная революция, при которой не могло замереть раз начавшееся умственное движение. Появление молодой буржуазии отразилось в либерально-конституционном движении; возникновение пролетариата – в движении, обыкновенно называемом нигилизмом». Энгельс употребляет здесь как-раз тот методологический прием, которым пользовались Соловьев, Ключевский и другие русские исследователи, стараясь найти социологическое об᾽яснение реформы Петра I. Исторический процесс несравненно лучше об᾽ясняется материализмом, нежели идеализмом. Чтобы выразиться точнее, надо сказать, что научное об᾽яснение исторического процесса становится возможным только тогда, когда исследователи сознательно или бессознательно переходят на почву материализма. Однако, поле зрения исторического матераилиста не ограничивается одной экономикой.
В него не только входит, но непременно должна входить вся та «надстройка», которая, возникая на экономической основе, всегда имеет более или менее сильное обратное влияние на нее. Если бы материалист не захотел принимать во внимание это обратное влияние, то он тем самым изменил бы своему собственному методу: устранить из своего поля зрения «надстройку» вовсе не значит об᾽яснить ее происхождение из экономической основы и ее обратное воздействие на эту последнюю.
V
Нам неизвестны такие цивилизованные общества, которые не приходили бы в соприкосновение со своими соседями. Для каждого такого общества существует известная историческая среда, неизбежно влияющая на его развитие. И для каждого общества среда эта различна. Этим вносится элемент разнообразия в ход исторического движения. И этим в значительной степени об᾽ясняется то, что нет и не может быть двух обществ, процесс развития которых был бы совершенно одинаков. Воздействие одного общества на другое, – «взаимодействие» между ними, – не выдумка «туманных метафизиков», а простой исторический факт. Для социолога вопрос заключается не в том, существует ли оно, – это стоит вне всякого сомнения, – а в том, по каким путям оно прежде всего направляется. Последовательные идеалисты, считавшие «мнение» главной движущей силой общественного развития, были по своему совершенно правы, думая, что одно общество воздействует на другое прежде всего посредством своих идей (»просвещения»). Последовательные материалисты нисколько не отрицают идейного взаимодействия между народами. По их научному убеждению, путь для него подготовляется теми международными сношениями, которые обусловливаются материальными нуждами народов. Материальные нужды побуждают их ко взаимному обмену продуктов своей хозяйственной деятельности. Этнология показывает, что такой обмен возникает уже на очень низких стадиях хозяйственного развития. Но, кроме обмена, – который сам в течение некоторого времени весьма нередко сливается с разбоем, – материальные нужды вызывают военные столкновения между обществами (племенами, городами, народами)[435]. Этими столкновениями современем порождается известная военная организация. Ее характер зависит от степени экономического развития, достигнутой данным обществом. Раз возникнув, она отвлекает ту или другую долю общественного труда от его первоначального назначения: производства продуктов для непосредственного удовлетворения потребностей членов общества, а также для производства средств производства. Если данное общество вступает в соприкосновение с народами,
стоящими на более высокой ступени экономического развития и потому обладающими более совершенной военной техникой, то, под страхом окончательного поражения и потери независимости, ему приходится усваивать себе эту более совершенную военную технику. Возможность подобного усвоения, а также более или менее своеобразный ход и быстрота его процесса определяются экономикой отсталого общества и выросшими на ее основе социально-политическими отношениями. Но более совершенная военная техника возникает на более высокой ступени экономического развития. Поэтому, если усвоение имеет место, то политические представители отсталой страны видят себя вынужденными позаботиться о насаждении в ней таких производств и о введении таких учреждений, в которых она вовсе не имела бы нужды или имела бы значительно меньшую нужду при другой исторической обстановке. Иначе сказать, экономическая политика отсталого государства не получила бы такого вида, не будь у него соседей, обладающих, вследствие более высокого экономического развития, более могучей военной техникой. Правители начинают заводить фабрики, принимают меры для развития торговли и ремесл, словом, способствуют росту производительных сил страны. Таким образом, военная потребность данного общества, выросшая на данной экономической основе, при известных исторических условиях оказывает значительно увеличенное влияние на дальнейшее развитие названной основы. Это хорошо видно уже на примере некоторых западных государств. Потерпев жестокие поражения в борьбе с Францией, которую обновила революционная буря, правительство Пруссии предприняло целый ряд реформ, много содействовавших дальнейшему экономическому развитию этой страны. И то же самое, только в гораздо большей степени, видно на примере Московской Руси[436]. В подобных случаях правительство отсталой страны неизбежно играет более или менее прогрессивную роль, и эта его роль обеспечивает ему на известное время сочувствие передовых умов его страны. Только прогрессивным значением Петровской реформы об᾽ясняется восторженный взгляд Белинского на Петра, как на «божество», воззвавшее нас к жизни. Разлад между передовыми умами отсталой страны и ее правительством начинается лишь после того, – и иногда довольно долго после того, – как это последнее окончательно отказывается от прогрессивной роли. Целый период в истории русской общественной мысли останется непонятным для нас, если мы не отдадим себе отчета в этой диалектике истории.
M.H.Покровский недоволен тем, что историки, указывавшие на военно-финансовую необходимость как на причину Петровской реформы, не обратили надлежащего внимания на состояние народного хозяйства в Москве XVII века. Этот упрек далеко не лишен основания. Надо признать, что до сих пор русские, да и не одни русские, историки недостаточно внимательно изучали развитие экономических отношений. До сих пор в их рассуждениях слишком часто обнаруживается достойный крайнего сожаления недостаток точных политико-экономических знаний. М.Н.Покровский безусловно прав, полагая, что нельзя понять Петровскую реформу, не ознакомившись предварительно с экономикой Московского государства XVII столетия. Но и сам он вряд ли вполне точно характеризует это состояние. Вот пример. Он пишет: «Первые цари дома Романовых монополизировали в своих руках в сущности все наиболее ценные предметы сбыта. «Царь – первый купец в своем государстве», – говорит долго проживший в России Коллинс. Перечень царских монополий дает нам любопытную картину концентрации русского вывоза, создавшей почву, на которой вырастал туземный торговый капитализм»[437]. Картина эта в самом деле очень любопытна. Но она отнюдь не свидетельствует о цветущем состоянии московского «торгового капитализма». То обстоятельство, что царь был первым купцом в своем государстве, указывает на низкую ступень экономического развития страны и на близость ее общественных отношений к общественным отношениям восточных деспотий[438]. В древнем Египте первым купцом тоже являлся глава государства. Экономическая неразвитость Московской Руси ΧVII века недостаточно оттенена М.Н.Покровским[439]. Он прав, говоря, что «торговый капитализм XVII века имел громадное влияние и на внешнюю, и на внутреннюю политику Московского государства»[440]. Но он вряд ли обратил достаточное внимание на те социально-политические отношения, при которых имело место это влияние[441]. И только потому, что он не обратил на них достаточного
внимания, он увидел нечто «метафизическое» в известном уже нам указании на финансовую необходимость. На самом деле совершенно понятно, что эта необходимость сыграла огромную роль в дальнейшем развитии той страны, в которой государь был первым купцом. Царские монополии сами служили средством удовлетворения тех финансовых потребностей Московского государства, которые в свою очередь порождались его военными нуждами. Таким образом, «торговый капитализм» московского правительства находится в тесной причинной зависимости от «военно-финансовой необходимости», и противопоставлять его ей нет основания[442].
VI
Неоспоримо, что та же военно-финансовая необходимость определила собою тот род просветительного влияния, который взял верх в Московском государстве. В прежнее время русские книжники довольствовались сознанием своей верности православной церкви: «не учен диалектике, риторике и философии, но разум Христов в себе имею». Однако, в XVII веке московские блюстители православия столкнулись с вопросом о критерии, с помощью которого можно было бы отличать людей, имеющих в себе «разум Христов». Они увидели, что обряды московской церкви во многом отличаются от греческих. На это не однажды с укором указывали представители греческой церкви. Незадолго до вступления Никона на патриарший престол монахи греческих монастырей на Афоне об᾽явили ересью московское двуперстие, сожгли московские богослужебные книги и в избытке религиозного рвения хотели даже сжечь того монаха, – серба Дамаскина, – у которого нашлись эти книги. Мало того. В славянском тексте молитв и богослужебных книг обнаружились несходства с греческим текстом. Чтобы решить, допустимы ли эти отклонения, и разобраться в вопросе о церковных обрядах, нужно было обратиться к богословию, опиравшемуся, как на вспомогательные науки, на «диалектику, риторику и философию». Словом, нужно было учиться[443]. Сознание нужды в просвещении должно было подкрепляться действием исторической обстановки
того времени. В XVII веке православное Московское государство приняло деятельное участие в борьбе Юго-западной Руси с католической Польшей. Если ратные люди боролись оружием, то православному духовенству нельзя было избежать идейной борьбы с католицизмом. Борьба эта давно уже началась в Западной Руси, и хотя москвитяне мало интересовались тонкостями западнорусской православной аргументации, но в половине XVII века им уже невозможно было сохранить полное равнодушие к ним. Наконец, если московские пастыри хотели предохранить свое духовное стадо от «ересей», носителями которых являлись иностранцы, вызывавшиеся в Москву правительством, то и здесь им нельзя было обойтись без «диалектики, риторики и философии». И вот мы видим, что одновременно с западно-европейскими пушечными мастерами и «рудознатцами» Москва зовет к себе ученых греков и западно-руссов, которым она отдает в науку своих молодых людей. Уже в 30-х годах XVII века патриарх Филарет устроил при Чудовом монастыре школу, получившую название патриаршей. В конце 40-х годов боярин Ртищев завел при Андреевском монастыре училище, отданное им в заведывание западно-русских ученых иноков. В 1679 году учреждено училище, названное Еллино-греческим, потом переименованное в Славянолатинскую, а еще позже – в Славяно-греко-латинскую академию. В этой академии преподавали грамматику, пиитику, риторику, диалектику, философию, богословие, церковное и гражданское право. Проект устава для нея написан был знаменитым в летописях московского просвещения западно-руссом Симеоном Полоцким. Между греческими просветителями, с одной стороны, и западно-русскими – с другой, тотчас возникли несогласия и соперничество. При устройстве школ много спорили о том, к какому типу они должны приближаться: к греческому или же к западно-русскому. Другими словами: в деле школьного образования, направленном на удовлетворение нравственно-религиозных целей, тоже происходила борьба восточного (греческого) влияния с западным (киевским). Но эта борьба двух влияний, совершавшаяся в одной и той же области идей, имеет ничтожное историческое значение в сравнении со взаимной борьбой двух влияний, исходивших из двух, вполне различных по своей природе, отраслей знания: технической – с одной стороны, и литературно-богословской – с другой. Хотя московскому духовенству до крайности нужно было пополнить запас своих сведений, но в тогдашней исторической обстановке даже посредственный пушечный мастер или рудознатец был несравненно важнее для Москвы, нежели самый ученый богослов или самый пышный «витья»[444]. Москва, как видно, сама сознавала это: «киевские ученые, – говорит Ключевский, – вознаграждались умереннее немецких
наемных офицеров»[445]. Понятно, почему у нас в конце-концов одержало решительную победу не греческое и не киевское влияние, а влияние тех западных стран, христианских жителей которых Москва в своей простоте искренно считала «нехристями». Социологическая причина этой победы «еретического» влияния над православным прекрасно выяснена Соловьевым. «Прежде всего нужно было выйти из экономической несостоятельности, нужно было разбогатеть и усилиться, – разбогатеть посредством торговли, промыслов; нужно было море, – пробиться к морю нужно было с оружием в руках; нужно было свести старые счеты, освободиться от татарской дани, которую платили в Крым под именем поминков, – нужно было, следовательно, выучиться ратному искусству, нужно было выучиться строить корабли и плавать на них, строить крепости. Чтобы поднять торговлю и богатство, нужно было выучиться прокладывать дороги, прорывать каналы, – нужно было выучиться всяким искусствам и ремеслам»[446]. По поводу этих строк мне опять хочется сказать, что Соловьева нельзя относить без важных оговорок к числу исторических идеалистов и туманных «метафизиков». Но довольно об этом.
Глава VIII Первые западники и просветители Кн. И. A. Xвopocmuнин – В. А. Ордин-Нащокин
I. Кн. И. А. Хворостинин 1
Если в Московском государстве победило влияние «нехристей», то и в этом последнем были свои важные оттенки: польское влияние сильно отличалось по всему своему характеру, от «немецкого». При Петре «немецкое» влияние вытеснило польское; но в эпоху, непосредственно предшествовавшую Петровской реформе польское влияние было в Москве довольно сильно. В 1671 году в письме к царю один из западно-руссов (Л. Баранович) говорил, что «синклит царского пресветлого величества польского языка не гнушается, но чтут книги ляцкия в сладость». В следующем году была сделана, правда, кончившаяся неудачей, попытка организовать в Москве продажу польских книг[447]. Царь Федор Алексеевич владел польским языком. В домах московской знати появилась польская утварь. «Ляцкий» язык, «ляцкие» книги и «ляцкие» изделия прокладывали путь, – правда, весьма узкий, чуть заметную тропинку, – «ляцким» идеям. Нам известно сообщение Маскевича о том, как упорно защищали москвичи в разговорах с ним особенности своего политического строя. Говоря вообще, польское влияние никогда не могло поколебать убеждение московских людей XVII века в преимуществах восточно-русского политического порядка и общественного быта. Но нет правила без исключений. Близкие сношения с поляками в эпоху Смуты имели то последствие, что по крайней мере некоторые отдельные москвичи стали отрицательно относиться и к названному быту, и к названному порядку[448]. К числу
этих редких, но тем более интересных исключений принадлежал кн. И.А.Хворостинин из рода ярославских князей. Князь Иван Андреевич находился при дворе первого Лжедимитрия в должности кравчего. Согласно некоторым источникам, он состоял в позорной связи с самозванцем. Говорят также, что он уже в то время показал себя надменным. Не останавливаясь на этих обвинениях, отметим, что польское влияние вызвало у него до известной степени свободное отношение к религиозным понятиям московских людей. Указ, «сказанный» ему впоследствии от великих государей (царя Михаила и патриарха Филарета), упрекал его в том, что он еще «при Разстриге» заразился ересью. Невозможно решить теперь, как далеко шло в то время религиозное свободомыслие Хворостинина. Может быть, между поляками, во множестве с᾽ехавшимися тогда в столицу Восточной Руси, просто нашлись люди, сумевшие об᾽яснить молодому и, по общему признанию, очень способному человеку, что глубоко ошибались православные москвичи, принимая католиков за «нехристей». Ему достаточно было проникнуться таким убеждением, чтобы прослыть между своими соотечественниками еретиком. «При Разстриге» подобная ересь была не только не опасна, а, пожалуй, даже выгодна в смысле придворной карьеры. Но при Шуйском она навлекла на Хворостинина гонение: его сослали на покаяние в Иосифов монастырь. Неизвестно, как долго оставался он там. Повидимому, его скоро возвратили в Москву, так как, по его собственным словам, он был очевидцем столкновения патриарха Гермогена с боярским правительством. В начале 1613 года он служил воеводою в Мценске и в этом своем звании должен был «промышлять» над неприятелем. В следующем году мы видим его воеводою сторожевого полка в Новосиле. Во время нашествия на Москву Владислава с малороссийским гетманом Сагайдачным он «отсиделся от черкас» в Переяславле, за что получил от царя серебряный кубок и шубу в 160 рублей. В то время он был уже стольником. Но в нем, как видно, продолжали действовать польские дрожжи: он не позабыл своей «ереси». Кроме того, он по-прежнему производил на своих современников впечатление резкого, «надменного» человека. В этом смысле о нем отзывается его дальний родственник, князь С.И.Шаховской. По словам Шаховского, Хворостинин был «фарисейскою гордостью надмен». От того же современника мы узнаем о споре, который он вел с Хворостининым. Предметом спора был шестой вселенский собор, и Хворостинин говорил тоном, сильно обидевшим его собеседника. Кн. С.И.Шаховской писал ему: «Укорялъ меня еси вчерашняго дня въ дому своемъ, величался въ рабƀхъ своихъ и превозношася многимъ велеречіемъ и гордясь, реку, фарисейски, мняся превыше всƀхъ человƀкъ ученьемъ божественныхъ догматъ превзыти. Наше же убожество грубо и несмысленно нарековалъ еси и отнюдь чужа ученію священнаго и отцепреданнаго писанія, и за малое мое нƀкое реченіе препирахся еси гнƀвно и лютƀ свирƀпствова». По этому поводу Шаховской рассудительно замечает, что»нƀсть полезно благовƀрну мужу тщеславіемъ побƀжденну быти или звƀрски яритися на друга». К этому он прибавляет, что Хворостинин «измлада обыкохъ въ таковƀ велехвальнƀ обычаƀ быти». Интересно, что он называет «главным потаковникомъ» дурных
склонностей Хворостинина некого Заблоцкого, который только-что перешел в православие и, по весьма вероятному предположению проф. С.Ф.Платонова, был польского происхождения[449].
2
От внимания московского правительства не ускользнула своеобычность Хворостинина. Оно стало преследовать его, «вынимая» у него «латинские» образа и книги, т.-е. говоря по-нынешнему, делая у него обыски. Но в то время его «ересь» уже приняла, если верить указу, довольно широкие размеры. Он не только сам перестал ходить в церковь, но «бил и мучил» тех своих людей, которые ходили туда (вольнодумец сохранил в себе боярское самодурство!). Он говорил теперь «хульныя» слова об угодниках и отрицал воскресение мертвых. Это как-будто означает, что Хворостинин пришел к отрицанию по крайней мере некоторой части христианского учения. Но как должен был почувствовать себя, придя к подобному отрицанию, человек, воспитанный в такой среде, в глазах которой значение нравственности определялось прежде всего той санкцией, которую она получает от религии? Когда религия служит опорой нравственности, тогда религиозные сомнения часто вызывают скептическое отношение к нравственным правилам. Нравственность, не научившаяся ходить на собственных ногах, начинает хромать, когда лишается религиозных костылей. На основании указа, «сказанного» Хворостинину, можно заключить, что, перестав чаять воскресения мертвых, он запил горькую. Может быть, на самом деле он и не сделался таким пьяницей, каким выставляет его указ. Впоследствии он утверждал, что пьянство было противно нраву его. Но ничего психологически-невозможного не заключает в себе и то предположение, что, когда почва заколебалась у него под ногами, вольнодумный потомок ярославских князей временно очень подружился с бутылкой[450]. Это тем более возможно, что при своих новых взглядах он чувствовал себя совсем одиноким. Критическая работа его мысли не ограничилась областью религии. Уже и прежде смотревший на своих соотечественников сверху вниз, он стал теперь отзываться о них самым презрительным образом. Упрекая их в неразумном отношении к вопросам веры, он прибавлял, что они сеют землю рожью, а живут ложью,
и писал по их адресу «многія укоризненныя слова на вирш», т.-е. стихами. Из этого видно, что хотя, может быть, Хворостинин повременам и злоупотреблял крепкими напитками, но это не мешало ему пред᾽являть к своим ближним, а вероятно, и к самому себе серьезные нравственные требования. Стало быть, если почва и колебалась у него под ногами, то не в тех случаях, когда речь заходила о важнейших вопросах нравственности. Авторы указа выставляют против него еще тот упрек, что он называл московского царя деспотом русским. Они видят в этом умаление царского титула[451]. Но возможно, что тут было нечто более серьезное, нежели желание «умалить титул». Если в спорах с Маскевичем жители Москвы обыкновенно высказывались за свой царизм, то, уже тогда не вполне похожий на остальных москвичей и склонявшийся к польским понятиям князь Иван Андреевич мог, наоборот, предпочитать шляхетскую свободу и, не позволяя себе почти ребяческой выходки умаления царского титула, укоризненно называть деспотизмом московское самодержавие. В таком отношении к московской политической действительности авторы указа, – да, без сомнения, и не только они, – видели «гордость и безмерство». Но, раз начавшись в голове московского человека, работа критической мысли неизбежно должна была делать крайне затруднительным для него «приобщение» со своими, чуждыми «ереси» соотечественниками. А люди, чуждые «ереси», и составляли в тогдашней Москве общественную среду. Поэтому Хворостинину оставалось или томиться одиночеством, или покинуть пределы Московского государства: о сомнительном утешении с помощью бутылки я здесь не говорю. Указ приписывает Хворостинину намерение от᾽ехать в Литву. Если оно действительно было у него, то в лице кн. Хворостинина мы имеем перед собою первого московского человека, которому пришло в голову покинуть свою страну вследствие разлада с окружавшей его общественной средой. Курбский тоже бежал за пределы Московского государства. Но он бежал не потому, чтобы лишился нравственной возможности иметь «приобщение» с близкими ему по общественному положению москвичами. У него, наверно, было весьма тесное «приобщение» с очень многими из тогдашних бояр: Иван IV нисколько не обманывался на этот счет. Курбский не мог чувствовать себя нравственно одиноким «на Москве», несмотря на свою принадлежность к общественному слою, осужденному историей на политическую гибель. Не то с Ив. Хворостининым. Хотя, находясь под влиянием польских понятий, он не одобрял московского деспотизма, но собирался, – если собирался, – от᾽ехать в Литву он вряд ли потому, что боялся преследований за свое политическое вольномыслие. Как мы сейчас увидим, собственно политические вопросы очень мало привлекали к себе его внимание. Он просто слишком тяготился жизнью между людьми, сделавшимися совершенно чуждыми ему по своему миросозерцанию. «Это был, – говорит о нем Ключевский, – своеобразный русский вольнодумец на католической
подкладке, проникшийся глубокой антипатией к византийско-церковной черствой обрядности и ко всей русской жизни, ею пропитанной, – отдаленный духовный предок Чаадаева»[452]. Ключевский не совсем прав. Но если бы он и был прав, то следует принять во внимание, что пессимизм Чаадаева является лишь одним из наиболее ярких образчиков той безнадежности, которая овладевала нашими западниками, когда они чувствовали себя совершенно безсильными в борьбе с русским застоем, и которая проникала подчас в сердца даже самых бодрых и энергичных между ними.
3
В Литву Хворостинин не уехал. В конце 1622 или в начале 1623 года его опять сослали «под начал», – на этот раз в Кириллов монастырь, где он должен был жить под надзором «доброго» старца. Патриарх приказывал, «чтоб у него без келейного правила не было ни одного дни и церковного б пения николи не отбывал». В Кириллове, – как прежде в Иосифове, – монастыре наш вольнодумец оставался недолго. Его освободили в январе 1624 г., взяв с него подписку об отречении от «ереси». Через год с небольшим, 28 февраля 1625 г., он умер. Но умер уже не Иваном, а Иосифом, так как незадолго до смерти сделался монахом Троице-Сергиева монастыря, в котором его и похоронили. После него остались сочинения, в своем роде весьма интересные. Одно из них представляет собою сказание о Смутном времени и озаглавлено так: «Словеса дней и царей и святителей московскихъ, еже есть в России. Списано вкратце, предложение историческо, написано бƀ ко исправленію и ко прочитанію благочестіе любящихъ, составлено Иваномъ дуксомъ. Сіе князь Иванова слогу Андреевича Хворостинина»[453]. То обстоятельство, что «Словеса» предназначались для читателей, любящих благочестие, вызывает вопрос, какого же рода благочестие имел в виду автор, смущавший современников своей «ересью». Оказывается, что в этом сочинении мы имеем дело с самым заурядным благочестием тогдашних московских людей. Хворостинин радуется тому, что русская земля, в язычестве бывшая самой нечестивой изо всех, стала, наоборот, самой благочестивой после принятия христианства. Он говорит: «И во инƀхъ бо странахъ аще и мнози быша благочестиви же и праведни, но мнози бƀяху и нечестиви и невƀрни, съ ними живуще и еретическая мудрствующе, – въ Рустƀй же земли не токмо веси и села мнози свƀдоми, но и грады мнози суть единаго пастыря Христа едина овчата суть, и вси единомудрствующе и вси славяще святую Троицу»[454]. «Словеса» заключают в себе весьма почтительные отзывы о московских святынях и восторженные похвалы по адресу патриарха Гермогена, от которого автор пострадал, по его словам, очень сильно. Если к этому прибавить, что в «Словесах» Филарет называется не патриархом,
а ростовским митрополитом, то представится вполне достоверной та догадка проф. Платонова, согласно которой они написаны до поставления Филарета на патриаршество. Но так как Хворостинин упоминает в них о своей службе рязанским воеводой, относящейся к 1618 г. и к началу следующего, то опять приходится предположить вместе с проф. Платоновым, что «Словеса» писаны в первой половине 1619 г. и имели целью самооправдание Хворостинина. «В этом году возвратился из Польши Филарет Никитич и стал патриархом, – говорит только-что названный исследователь. – О «владетельном» и о «пальчивом» его характере в Москве, конечно, знали, и Хворостинин мог опасаться от него гонений за свое прошлое. Явиться в глазах Филарета православным человеком и патриотом было для него весьма важно. Нет ничего невозможного в том, что Хворостинин избрал для этого литературный путь»[455]. Если это так, то заурядное благочестие, пропитывающее собою «Словеса», должно быть признано весьма целесообразным. Но в таком случае спрашивается: был ли искренен Хворостинин, выдавая себя в своем сочинении за православного человека и патриота? При решении этого вопроса необходимо помнить, что в другом своем литературном труде, с которым мы сейчас ознакомимся, Хворостинин называл лишенными всякого основания обвинения его в «ереси». Это его утверждение не может быть принято в буквальном смысле, поскольку оно относится к тому периоду его жизни, который начался после написания «Словес» и в течение которого он, по выражению проф. Платонова, не скрывал своих «еретических» взглядов. Но и в течение этого периода (1621–1622 гг.) его отступления от православной веры, может быть, не достигали таких больших размеров, какие они приняли в глазах современников. Что же касается вольнодумства, обнаруженного Хворостининым «при Расстриге», то, как сказано выше, оно могло ограничиваться простым отрицанием старого московского взгляда на католиков как на нехристей и соответствующим такому отрицанию уважительным отношением к католическим образам и к католическому богослужению. Если мы допустим все это, – а на такое допущение мы, повидимому, имеем полное право, – то выйдет, что хотя, конечно, Хворостинин сильно подчеркнул и даже преувеличил в «Словесах» свое благочестивое настроение, но все-таки он был в них далек от того лицемерия, в котором его можно заподозреть при недостаточно критическом отношении к делу. Как бы там ни было, «Словеса» содержат в себе много если не прямых, то косвенных данных для характеристики образа мыслей этого выдающегося человека.
4
Выше я заметил, что сказания московских людей XVII века о Смутном времени свидетельствуют об очень низком уровне политического развития их авторов. Это замечание надо распространить также и на «Словеса» Хворостинина. Хотя, подчинившись польскому влиянию, он не мог оставаться сторонником московского
политического порядка, но его повесть о Смутном времени не носит на себе следов серьезных размышлений о политике. Повествование о вступлении Шуйского на Престол давало ему, казалось бы, самый подходящий повод выразить, – если не ясно, то хотя бы с помощью намека, – свой взгляд на вопрос об ограничении царской власти. Он не воспользовался этим поводом. Присяга, принесенная Шуйским, вызывает у него такое восклицание: «И тако всему міру клятва потребу творити всƀмъ въ царствіи его живущимъ! О бƀда! о скорбь! единаго ради малаго времени житія сего свƀтомъ льстится царь и клятву возводить на главу свою, никто не отъ человƀкъ того отъ него требуя, но самоволнƀ клятвƀ издався. О, властолюбецъ сый, а не боголюбецъ!»[456]. Это восклицание перестанет быть для нас непонятным только при том предположении, что увлекавшийся западными обычаями Хворостинин разбирался в политике не многим лучше защитников старого образа жизни. Ведь и после него на Руси было немало западников, остававшихся детьми в политических вопросах. Не следует думать, что, претерпев от Шуйского гонения, он склонен был осуждать его во что бы то ни стало. Ведь хвалил же он Гермогена, которого считал главным виновником своих несчастий. Можно возразить, пожалуй, что в царствование Михаила и при патриархе Филарете нападки на Шуйского не грозили Хворостинину никакой опасностью, тогда как напасть на Гермогена значило не достигнуть той цели, ради которой и написаны были «Словеса», т.-е. самооправдания. Но я уже сказал, что, признавая апологетический характер этого сочинения, я отказываюсь признать его автора лицемером. Интересная подробность. Родовитый потомок ярославских князей резко осуждает поведение бояр во время междуцарствия[457]. Наконец, запомним еще вот что. Уже в «Словесах», – т.-е., согласно предположению проф. Платонова, в первой половине 1619 года, – Хворостинин к числу дурных сторон царствования Бориса Годунова относит то, что, он своей политикой «ненавидение и лесть в рабƀхъ сотвори, и возведе работныхъ на свободныя»[458]. Этот отзыв потому заслуживает внимания, что в другом сочинении (»Изложение на іретикі»), которое Хворостинин написал по старой памяти «на вирш», вероятно, уже после поступления своего в монахи, он говорит, что пострадал вследствие холопских доносов.
Но и рабы мои быша мнƀ сопостаты, Разрушили души моей полаты, Крƀпость і огражденіе отъяша I оклеветаніе на мя совƀщаша. Злы бо ихъ зƀло беззаконныя злобы, Творили на мя смертныя гробы. Зла бо быша ихъ порода, Аки аспидскаго рода.
Пущали на мя свои яды, Творили измƀнныя ряды, Вопчƀ на мя приносили И злочестем меня обносили[459].
Дайте веру этой жалобе, и перед вами встанет следующее бытовое явление. Довольно знатный московский служилый человек, склонившись к западным обычаям, высказывает, – и, по свидетельству князя Шаховского, высказывает резко, раздражительно, – смелые по тому времени религиозные взгляды. Сообразно этим своим смелым взглядам, он не ходит в церковь и вообще отвергает византийскую обрядность, составлявшую в глазах московских людей самую сущность благочестия. И не только сам не ходит в церковь, не только сам отвергает обрядность: он хочет, чтобы и «рабы» его перестали отождествлять религию с обрядностью. А так как наш западник остается рабовладельцем, то холопам своим он внушает религиозное вольномыслие посредством приказаний и даже побоев. С своей стороны холопы следуют обычаю, установившемуся в Москве по крайней мере со времен Годунова: они спешат донести на своего господина, которого ссылают за ересь в монастырь, где старательно «истязают в вере». Частью вследствие «истязаний», а частью вследствие того, что влияние Запада не очень глубоко проникло в его душу, господин возвращается в лоно православия и даже поступает в монахи. Но, несмотря на овладевшее им теперь православно-благочестивое настроение, он, простивший, может быть, все прегрешения всем своим ближним свободного состояния, не может забыть измену своих «рабов». Рожденный полемистом, он не устает язвить их «двоестрочным согласием». Рассказав о том, как они «обносили» его своим «злочестием», он восклицает:
Владыка Господи! Ты имъ суди I съ ними мя разсуди, Ты вƀси мое чювство, Ты зриши ихъ буйство. Хлƀбы мои же вскормиша I благость моя на зло их обратиша.
Слава быша в руцƀ Господня Краше сладчайшаго крина.
5
Больше всего печалит князя-инока то, что он считает неблагодарностью «рабов»: он их вскормил своим хлебом и был добр с ними, а они на него донесли. Былое свободомыслие Хворостинина не открыло перед ним той истины, что не владельцы
«кормят» своих «рабов», а, наоборот, «рабы» – своих владельцев. Но до сознания этой истины далеко не доходили и польские шляхтичи, своим влиянием расположившие его к свободомыслию. Вероятно, в своем иночестве Хворостинин вспоминал, как он пытался привить своим «рабам» просвещенный взгляд на религию и как его попытки, – надо надеяться, не всегда имевшие боевой характер, – кончились неудачей. Он пришел к тому твердому убеждению, что и делать не следовало таких попыток.
Не сыпте злата предъ свиніями Да не осквернятъ своими ногами.
А потом он снова и снова возвращается к измене «рабов» и опять хулит и «на виршƀ»:
От раб пріах многи налоги, Сотворили на мя злыя прілоги. Не помянули Христова слова, I не избегнулъ азъ отъ нихъ злаго лова.
Чтобы об᾽яснить дурное поведение «рабов», наш дукс Иван пишет целый психологический очерк. И под его пером «рабская» психология приобретает непривлекательный вид.
Они не боятся небеснаго Бога. Иже всƀмъ даетъ дорба многа. Словеса ихъ вƀрна, аки паучина, И злоба их – злая паучина. Азъ быхъ единъ надъ ними, Надъ измƀнники своими, Господиномъ имъ поставленъ И отъ Бога паче ихъ прославленъ. Но быша ми зƀлныя врази И осквернили клятвою душевныя прази Ради часовня своей воли, Хотяше отбƀгнути господскія неволи.
Надо думать, что «рабы» подтвердили свое обвинение Хворостинина в ереси присягою. Убежденный с своей стороны в том, что это обвинение было несправедливо, Хворостинин естественно считал их присягу клятвопреступлением. Поэтому он и говорит, что они осквернили свои души и что словеса их верны, «аки паучина». Но почему же они решились осквернить свои души? По словам Хворостинина, они были недовольны тем, что он был поставлен над ними господином, т.е. тяготились своей холопской зависимостью. Донося на него, они надеялись «отбƀгнути господьския неволи», т.-е. получить от правительства свободу. Нельзя не признать, что это – весьма вероятное об᾽яснение. В социально-политической обстановке, созданной экономической отсталостью Московского государства,
недовольство трудящегося класса своим положением должно было нередко выражаться в отталкивающих действиях, подобных тем, которые клеймил двоестрочным согласием кн. Хворостинин. Кто понимает психологию демократических элементов нынешней нашей «черной сотни», тот знает, что эти элементы тоже ведут классовую борьбу, но, по своей крайней неразвитости, ведут ее диким, совсем нецелесообразным и отвратительным способом. Мы видим теперь, в каких исторических условиях коренится указанная психология[460]. Возражения Хворостинина против «іретиков» сами по себе мало интересны. Но изложены они, согласно темпераменту автора, резко, и порой в них блещет остроумие. Так, например, упрекнув римскую церковь в том, что она за деньги продает спасение, он иронически спрашивает, почему она не продаст отпущения грехов самому бесу. К римскому папе он обращается с таким увещанием:
О прегордый папо! откинь свои блуды, Ниже являй тƀ свои всему міру студы. Гдƀ же Петръ повелƀ паствы раззыряти I зъ благочестивыми злочестивыхъ породняти? Почтожъ отъ блудницъ дани збираешъ I имъ блудитися явно повелƀваешь? Чего ради празднуешь праздники съ жидами, Христоубійцами, Божіими врагами? Клятва апостоловъ тебе погубитъ I святыми ихъ заповƀдми будешь убитъ. I еуангельскаго реченія чего ради не прочитаешь?[461]
Это – довольно пресно. И еще более пресным становится бедный «дукс», когда, вопреки своему темпераменту, берет на себя роль благочестивого проповедника православия. Например:
Кто православная вƀры отступаетъ, Паки со святымъ жребіи не вступаетъ. Таковаго бываетъ душа мертва, И самъ есть гнусная грƀховная жертва.
Гордое сознание своего превосходства над окружающей его средой и горькое сожаление об ее темноте не покинули Хворостинина до конца дней. Они пробиваются наружу даже через его пресно-благочестивые разглагольствования об истинной вере, так что невольно спрашиваешь себя: не было ли для него пострижение своего рода заменой неудавшегося от᾽езда за границу; средством удалиться от общественной среды, состоявшей и людей, которые землю сеяли рожью, а жили ложью? И не попал ли он из огня да в полымя?
II. В. А. Ордин-Нащокин Князь И.А.Хворостинин только мечтал о том, чтобы покинуть Московское государство, а В.А.Нащокин в самом деле бежал за границу. Это случилось уже при Алексее Михайловиче, – в феврале 1660 года. Сын знаменитого московского дипломата Афанасия Лаврентьевича, Воин Ордин-Нащокин был послан к своему отцу с важным поручением и воспользовался этим для «измены». Это было так неожиданно и так не согласовалось с общественным положением молодого беглеца, что благочестивые москвичи могли об᾽яснить себе этот казус только происками исконного врага человеческого рода. Алексей Михайлович положительно утверждал в письме к Ордину-Нащокину-отцу, что дело приключилось благодаря вмешательству «самого сатаны и даже всех сил бесовских», отторгнувших от отца «сего доброго агнца яростным и смрадным своим дуновением». Однако, историки об᾽ясняют дело проще. Вот что говорит о нем С.М.Соловьев: «Воин уже давно был известен как умный и распорядительный молодой человек, во время отсутствия отца занимал его место в Царевичеве-Дмитриеве городе, вел заграничную переписку, пересылал вести к отцу и в Москву к самому царю. Но среди этой деятельности у молодого человека было другое на уме и на сердце: сам отец давно уже приучил его с благоговением смотреть на Запад постоянными выходками своими против порядков московских, постоянными толками, что в других государствах иначе делается и лучше делается. Желая дать сыну образование, отец окружил его пленными поляками, и эти учителя постарались с своей стороны усилить в нем страсть к чужеземцам, нелюбье к своему, воспламеняли его рассказами о польской «воле». В описываемое время он ездил в Москву, где стошнило ему окончательно, и вот, получив от государя поручение к отцу, вместо Ливонии он поехал за границу, в Данциг к польскому королю, который отправил его сначала к императору, а потом во Францию»[462]. Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин порицал московские порядки и говорил, что в других государствах иначе делается и лучше делается. Он уже знал цену западной цивилизации. Но он полагал, что, делая заимствования у Запада, московские люди могут и должны сохранить в его существенных чертах свой старый образ жизни. А Воин Нащокин уже до крайности тяготился старым Московским бытом. Он задыхался в Москве, испытывал в ней «окончательную» тошноту. С.М.Соловьев как-будто винит в этом польских учителей, которые якобы постарались усилить в своем ученике страсть к чужеземцам и воспламенить его рассказами о польской свободе. Но польским учителям молодого Нащокина не было надобности сознательно внушать ему отвращение «к своему» быту. Тогдашние московские порядки и обычаи говорили сами за себя. Отзывчивому и пылкому молодому человеку достаточно было увлечься нарисованной перед ним картиной западно-европейской цивилизации, чтобы почувствовать жестокие
приступы «тошноты». И тогда желание уехать за границу становилось вполне естественным. Алексей Михайлович решил настойчиво добиваться выдачи беглеца. Он наказывал старику Нащокину всячески промышлять о своем сыне, «чтоб его, поймав, привести к нему, за это сулить и давать пять, шесть и десять тысяч рублей; а если его таким образом промышлять нельзя, и если Афанасию надобно, то сына его извести бы там, потому что он от великого государя к отцу отпущен был со многими указами о делах и с ведомостями». Лицу, с которым был отправлен этот наказ А.Л.Нащокину, тишайший царь советовал «о небытии его (молодого Нащокина. Г.П.) на свете говорить (с его отцом. Г.П.) не прежде, как выслушав отцовские речи, и говорить, примерившись к ним»[463]. Я не знаю, как именно переданы были огорченному А.Л.Ордину-Нащокину «тишайшие» царские советы и согласился ли он способствовать, – если представится казенная «надобность», – небытию на свете своего сына. Думаю, что не всякий отец пошел бы на это даже в тогдашней Москве. Людей, подобных кн. Ив.Хворостинину и Воину Нащокину, «тошнило» в Москве и тянуло за рубеж. Но им трудно было приспособиться и к западноевропейской жизни. Их беда, – большая, неизбывная беда, – заключалась в том, что они были иностранцами по обе стороны московского рубежа. К тому же и денежные дела русских беглецов должны были приходить в расстройство вследствие разрыва старых связей: не всякий получал поместья в Литве. Вынужденное безделье и томительная неопределенность положения заставляли их поклониться тому, что прежде сжигалось ими. Молодой Ордин-Нащокин раскаялся в своей «измене» и был прощен. В конце августа 1665 года ему послана была грамота, в которой от имени царя говорилось: «Челобитье твое принявъ, милостиво прощаемъ и обнадеживаемъ цƀлу и безъ навƀту нашимъ высокимъ милосердіемъ... свободну быти». Однако, жить он должен был в отцовских деревнях. Да и там его скоро потревожили. В сентябре 1666 года он был сослан «под крепкий начал» в тот же Кириллов монастырь, который за сорок лет до того видал в своих стенах «дукса Ивана». Монастырские власти обязаны были следить, чтобы он каждый день посещал церковь. Неизвестно, «истязали» ли его в вере, как истязали Хворостинина, но в январе следующего года Алексей Михайлович указал Воина Нащокина из-под начала освободить и отпустить к Москве. Это было сделано им в виду заслуг Афанасия Лаврентьевича Ордина-Нащокина по заключению Андрусовского перемирия с Польшей. Однако, когда заслуженный «посольских дел оберегатель» попытался снова открыть для своего сына дипломатическую карьеру, это ему не удалось. Воина вернули в деревню, впрочем, опять не навсегда. В конце-концов бывший эмигрант попал на должность воеводы в одном из провинциальных захолустий[464]. К сожалению, мы никогда не узнаем, что передумал и перечувствовал он,
прося помилования и переселяясь – по своей воле и по приказанию начальства – из-за границы в Москву, из Москвы в отцовскую деревню, из деревни в монастырь, из монастыря сначала опять в деревню, а потом на воеводство. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что этот, по тому времени на-редкость образованный, человек пережил длиную и мучительную душевную драму. На него можно смотреть как на одну из самых первых жертв поворота Москвы от Востока к Западу. «Тошнота», испытанная им в Москве и побудившая его бежать за границу, есть то тяжелое настроение, пережить которое пришлось впоследствии многим и немногим русским западникам. Можно сказать, что в XIX столетии даровитый профессор В.С.Печерин бежал из Москвы по дороге, впервые проложенной в XVII веке В.А.Ординым-Нащокиным[465]. Только В.С.Печерин и умер за границей...
Глава IX Первые западники и просветители (Продолжение) Г. К. Котошихин – Ю. Крижанич
I. Г. К. Котошихин 1
Несколько лет после В.А.Нащокина, – в конце 1664 г., – бежал за границу дьяк посольского приказа Григорий Карпович Котошихин, на которого мне приходилось ссылаться выше, говоря о «записи», взятой с Михаила при его избрании на престол, и о некоторой заботливости московского правительства по отношению к крепостным крестьянам. Было бы натяжкой относить побег Котошихина всецело на счет идеальных побуждений. Уже в июле 1663 г. некто Эберс, приехавший в Москву по поручению шведского правительства, получил от Котошихина некоторые дипломатические сведения, хранившиеся в тайне. За эту услугу он вознаградил его деньгами (40 руб.). Таким образом, перед нами неоспоримый факт государственной измены. В девятнадцатом веке московские славянофилы жестоко порицали Котошихина за его поступок. И само собою разумеется, что западники тоже никак не могли одобрить его измену. Однако, не говоря уже о том, что, по справедливому замечанию некоторых исследователей, московское приказное сословие вообще отличалось сомнительной нравственностью и охотно продавало свои услуги, не следует забывать, что Эберс в донесении шведскому королю характеризовал Котошихина как человека, бывшего, несмотря на руское происхождение, добрым шведом по своим симпатиям. Это похоже на то, что Эберс не смотрел на него просто как на шпиона, руководившегося одними корыстными рассчетами. Заслуживает внимания и тот факт, что еще раньше Котошихин был знаком с инвангородским (нарвским) купцом Кузьмой Овчинниковым, состоявшим в шведском подданстве. Впоследствии, уже бежав за границу, Григорий Карпович, по его собственным словам, увидел, что Овчинников был «своим мужественным духом преклонен к службе его королевского величества». Нет основания думать, что «преклонение» Овчинникова к шведской службе возникло уже после побега Котошихина. Вероятно, оно было на-лицо уже во время первой встречи шведско-подданного россиянина с московским подьячим. А так
как у Овчинникова не было никакой надобности скрывать свои шведские симпатии, то, может быть, его-то влияние и способствовало тому, что у самого Котошихина явилось «преклонение» оказывать услуги шведам. Возможно, разумеется, что Котошихин «преклонился» и под непосредственным влиянием шведских дипломатов, с которыми ему приходилось иметь дело уже начиная с 1659 года. Наконец, вспомним, что как-раз во время дипломатических сношений его со шведами с ним случилась неприятность, осязательная даже для толстой московской кожи того времени. За невинную описку в государевом титуле его наказали батогами. В то время, когда уже начался хотя бы и робкий, медленный поворот к Западу, батоги могли способствовать пробуждению в некоторых московских головах критической мысли. Как нарочно, в том же самом 1660 году, когда бедный подьячий отведал московских батогов, его два раза посылали с дипломатическими бумагами в Ревель, к шведскому посольству. Наблюдая сравнительно мягкие нравы шведов, Котошихин, спина которого, наверно, еще хорошо помнила тогда твердость московских батогов, мог прийти к заключениям, не выгодным для своей родины. В половине следующего года он опять сносился со шведами, принимая участие в заключении Кардисского мира. По возвращении в Москву он испытал новую неприятность. В его отсутствие у него отняли дом со всеми пожитками. «Все это сделано, – говорит он в своей автобиографической записке[466], – за вину моего отца, который был казначеем в одном московском монастыре и терпел гонения от думного дворянина Прокофья Елизарова, ложно обнесшего отца моего в том, что будто он расточил вверенную ему казну монастырскую, что впрочем не подтвердилось, ибо по учинении розыска оказалось в недочете на отце моем только пять алтын... несмотря на то, мне, когда я вернулся из Кардиса, не возвратили моего имущества, сколько я ни просил и ни заботился о том». Подобные происшествия тоже способны были навести на размышления, не весьма лестные для московских порядков. Вскоре после этого Котошихина опять отправили гонцом и опять к шведам. Те приняли его очень хорошо и подарили ему два серебряных бокала ценою в 304 далера. Не бог знает, какие ценные подарки! Но известно, что лучше маленький дом, нежели большая болезнь. В Швеции Котошихина награждали серебряными бокалами, хотя и не чрезвычайно ценными, а в Москве били батогами и разоряли. Впоследствии сам он утверждал, что желание поступить на шведскую службу возникло у него во время этого путешествия в Стокгольм. Раз явилось у него это желание, то выдача им государственных тайн Эберсу могла быть в самом деле выражением искренних симпатий его к Швеции. Повторяю, измена остается изменой; но указываемые мною обстоятельства проливают свет на условия, вызвавшие склонность к ней. Обстоятельство, непосредственно предшествовавшее побегу Котошихина из России, тоже заслуживает большого внимания. В то время (1664 г.) Россия вела, как известно, войну с Польшей. Котошихин должен был состоять при войске под начальством царских воевод. По доброму старому московскому обычаю,
воеводы жестоко ссорились между собой и писали друг на друга доносы в Москву. Князь Юрий Долгорукий «улещивал» Котошихина, чтобы тот поддержал донос его на князя Якова Черкасского. По той или по другой причине Котошихин отказался сделать это, чем, конечно, навлек на себя неудовольствие князя Юрия. Тогда у него и сложилось окончательно намерение покинуть родину. Вот как рассказывает он об этом: «Быв в таком затруднительном положении, сожалея о том, что не возвратился в Москву с князем Яковом, а еще более горюя о худой удаче мне на службе царской, в которой за верность и усердие награжден был при безвинном поругании моего отца, лишением дома и всего моего благосостояния, и принимая во внимание, что если бы я вернулся к Долгорукову в армию, то меня, по всей вероятности, ожидали бы там его злоба, истязания и пытки, за неисполнение мною его желания повредить князю Якову, я решился покинуть мое отечество, где не оставалось для меня никакой надежды»[467]. Через Польшу Котошихин достиг Швеции, где был принят на государственную службу. Шведы сумели оценить его выдающиеся способности. Но не повезло ему и в Швеции. В августе 1667 г. он имел несчастье подраться со своим пьяным домохозяином, ревновавшим его к своей жене. Котошихин смертельно ранил кинжалом своего противника, за что и был казнен. Шведский его биограф Баркгузен категорически говорит, что его преступление было непреднамеренное. Он называет Котошихина мужем несравненного ума (ingenio incomparabli)[468]. В своем презрительном отношении к изменнику славянофилы забывали спросить себя: почему же этот «муж несравненного ума» не ужился в Москве? Почему Москва не нашла приложения для его богатых способностей?
2
Написанное Котошихиным сочинение о России содержит в себе много важнейших данных для характеристики Московского государства XVII века. С точки зрения истории русской общественной мысли, оно очень важно как человеческий документ, свидетельствующий о том впечатлении, которое производила до-петровская Москва на способного русского человека, имевшего некоторое понятие о западно-европейской общественной жизни и не стоявшего на высоких ступенях общественной иерархии. Князь Ив.Хворостинин упрекал московских людей в недостатке правдивости. Котошихин осуждает грубость их «натуры», причем об᾽ясняет ее отсутствием в них «богобоязливости». Сообщив о том, что в день погребения московских царей правительство освобождало из тюрем преступников, он восклицает: «Горе тогда людем, будучим при том погребении, потому что погребение бывает в ночи, а народу бывает многое множество Московских и приезжих из городов
и из уездов; а Московских людей натура не богобоязливая, с мужеска пола и женска по улицам грабят платье и убивают до смерти; и сыщетца того дни, как бывает царю погребение, мертвых людей убитых и зарезанных болши ста человек»[469]. Живописен знаменитый отзыв Котошихина о тех боярах, которые получали свое высокое звание «не по разуму ихъ, но по великой породе». Заседая в государевой Думе, такие бояре молчали, «брады свои уставя», потому что ничего не понимали в делах и часто были «грамотƀ не ученью и не студерованные»[470]. Котошихину трудно было помириться с тем, что московские люди не учатся. Он хотел бы, чтобы учились не только мужчины, но и женщины. Рассказывая о приеме в Москве послов польского короля Яна-Казимира, он отмечает, что они не были допущены к царице под предлогом ее болезни, хотя она была в то время здорова. По этому случаю он ставит вопрос: для чего так творят? Ответ гласит: «Московскаго государства женской полъ грамотƀ не ученые, и не обычай тому есть, а породнымъ разумомъ простоваты, и на отговоры несмышлены и стыдливы»[471]. Несмышленость и неуместная «стыдливость» московского женского пола заставляют нашего автора задуматься о том, откуда берутся эти непривлекательные свойства. Он об᾽ясняет их затворничеством московских женщин высшего круга: «Понеже отъ младенческихъ лƀтъ до замужества своего у отцовъ своихъ живутъ въ тайныхъ покояхъ и опричь самыхъ ближнихъ родственныхъ, чужие люди никто ихъ, и они людей видƀти не могутъ – и потому мочно дознатца, отчегобъ имъ быти гораздо разумнымъ и смƀлымъ. Такъ же какъ и замужъ выйдутъ, и ихъ потомужь люди видаютъ мало». Неудивительно, значит, что царице не совсем удобно было принимать польских послов: «и толко бъ парь въ то время учинилъ такъ, что Полскимъ посломъ велƀлъ бы быть у царицы своей на посолствƀ, а она бъ выслушавъ посолство собою отвƀта не учинила бъ никакого, и оттого пришло бъ самому царю въ стыдъ»[472]. В предисловии к первому изданию книги Котошихина только-что приведенное соображение его отмечено как погрешность. «Не недостатокъ образованія, а освященный древностію обычай былъ, – сказано тамъ, – причиною, что царственный лица женскаго пола уклонялись отъ придворныхъ и другихъ публичныхъ обрядовъ, до временъ Петра Великаго». В доказательство автор предисловия ссылается на царевну Софью Алексеевну, «об уме которой не только русские, но и иностранцы отзывались с особенной похвалой»[473]. Но, во-первых, у Котошихина речь идет не столько об уме московских женщин, сколько об их образовании. Во-вторых, всем известно, что царевна Софья была редким исключением из общего правила. Да и это исключение явилось лишь после от᾽езда Котошихина за границу.
Принимая участие в посольствах, даровитый подьячий, должно быть, не раз испытывал смущение и досаду при виде того, как дурно вели себя московские послы. Он пишет, что на с᾽ездах с представителями иностранных государств они говорили по наказам, какие давались им из Москвы. Эти их речи записывались подьячими. Но к тому, что было говорено на самом деле, прибавлялось много другого, выставлявшего посольский «разум на обманство» с целью достать у царя честь и жалованье. И опять Котошихин ставит вопрос: «для чего такъ творятъ?» И опять у него выходит, что творят главным образом по своему необразованию. «Россійскаго государства люди породою своею спесивы и необычайные ко всякому дƀлу, понеже въ государствƀ своемъ наученія никакого доброго не имƀютъ и не пріемлютъ, кромƀ спесивства и безстыдства и ненависти и неправды; и ненаученіемъ своимъ говорятъ многія рƀчи къ противности, или скоростію своею къ подвижности, а потомъ въ тƀхъ своихъ словахъ времянемъ запрутся и превращаютъ на иные мысли; а что они какихъ словъ говоря запираются, и тое вину возлагаютъ на переводчиковъ, будто измƀною толмачатъ»[474]. Котошихин писал свою книгу для осведомления о России иностранцев. И временами у него возникала боязнь, что его сообщения о недостатках московской жизни будут недоверчиво встречены западными читателями. Тогда он начинал уверять их в своей правдивости. Вот, например, сказав о необразованности московских послов, он оговаривается: «Благоразумный читателю! чтучи сего писанія, не удивляйся. Правда есть тому всему; понеже для науки и обычая в-ыные государства детей своихъ не по-сылаютъ, страшась того: узнавъ тамошнихъ государствъ вƀры и обычаи, и вольность благую, начали бъ свою вƀру отмƀнить и приставать къ инымъ, и о возвращеніи къ домамъ своимъ и къ сродичемъ никакого бы попеченія не имƀли и не мыслили»[475].
3
Молодые люди, посланные Борисом Годуновым для науки за границу, остались там навсегда. Котошихин, наверно, слышал об этом. Кроме того, он и по собственному опыту знал, как трудно выносить московские батоги, получив некоторое понятие о западной «волности». Уже Курбский упрекал московского царя в том, что он лишил своих подданных права свободного выезда за границу. Не нравится отсутствие такого права и Котошихину. Он пишет: «И о поƀздƀ Московскихъ людей, кромƀ тƀхъ, которые посылаются по указу царскому и для торговли съ проƀзжими, ни для какихъ дƀлъ ƀхати никому не поволено. А хотя торговые люди ƀздятъ для торговли в-ыные государства, и по нихъ по знатныхъ нарочитьтхъ людехъ собираютъ поручные записи, за крƀпкими поруками, что имъ съ товарами своими и зъ животами в-ыныхъ государствахъ не остатися, а возвратитися назадъ совсƀмъ. А который бы человƀкъ, князь или бояринъ, или кто-нибудь, самъ, или сына, или брата своего, послалъ для
какого-нибудь дƀла в-ыное государство безъ вƀдомости, не бивъ челомъ государю, и такому бъ человƀку за такое дƀло поставлено было в-ызмƀну, и вотчины и помƀстья и животы взяты бъ были на царя: и ежели бъ кто самъ поƀхалъ, a послƀ его осталися сродственники, и ихъ бы пытали, не вƀдали ль они мысль сродственника своего; или бъ кто послалъ сына, или брата, или племянника, и его потомужъ пытали бъ, для чего он послалъ в-ыное государство, не напроваживаючи ль какихъ воинскихъ людей на Московское государство, хотя государствомъ завладƀти, или для какого иного воровского умышленія по чьему наученію»[476]. Измена изменой, а факт тот, что Котошихин дал вполне верную, – хотя, конечно, безотрадную, – картину московского быта. Я думаю, что славянофилы хорошо сознавали это и что в особенности поэтому они так раздражительно отзывались о Котошихине. В столь любезном славянофилам Московском государстве не было даже намека на «волность». Надо полагать, что если бы Котошихин написал программу нужных Московскому государству реформ, то на одном из самых первых ее мест он поставил бы более или менее полную свободу передвижения. Это требование было бы, пожалуй, крайним пределом его политического свободомыслия. Собственно в политической области его критическая мысль, – как и мысль Хворостинина, – работала вяло, почти целиком сохраняя свою московскую неповоротливость. Разумеется, он не одобрял жестокостей Ивана IV, которого он называет не Грозным, а Гордым. По его словам, Иван Гордый правил своим государством «въ ярости и во злобƀ силнƀ тиранскимъ обычаемъ»[477]. Но «гордого» царя Ивана осуждали за его тиранство очень многие из тех московских людей, которые ровно ничего не имели против восточной, – «вотчинной», – монархии. Строки, посвященные Котошихиным судьбе «записи», взятой с Михаила, отнюдь не свидетельствуют об ясности его политического мышления. Он довольствуется тем сообщением, что при восшествии Алексея ограничительная запись не была возобновлена в виду его «тихого» нрава. Он не спрашивает себя, дает ли тихий нрав неограниченного правителя достаточную гарантию управляемым. Кроме того, он не находит нужным выяснить, что значит, – с точки зрения взаимных политических обязательств главы государства и его подданных, – «обрать» царя на царство. Он ценил «вольность благую». Но он еще не понимал, что она должна быть обезпечена определенными политическими учреждениями. Наконец, вот еще одно проявление неповоротливости его политического мышления. Желая об᾽яснить, почему царь Алексей называется самодержцем, он указывает на то, что с него не было взято ограничительной записи. Между тем сам же он говорит, что царь Михаил, давший «запись», тоже писался самодержцем. Казалось бы, ему нетрудно было заметить, что если это так, то «писмо» не имело никакого отношения к происхождению указанного титула. Но Котошихин мало интересовался вопросом этого рода. Если он плохо понимал значение определенных политических норм, то он очень хорошо видел, что московская неволя страшно мешает развитию производительных
сил страны: тут он был настоящим западни ком. «А въ Московскомъ государствƀ, – пишет он, – золота и серебра не родится, хотя в Кроникахъ пишут, что русская земля на золото и на серебро урожайная, однако, сыскати не могутъ, а когда и сыщуть, и то малое, и къ такому дƀлу Московские люди не промышлены; а иныхъ государствъ люди тƀ мƀста, гдƀ родится золото и серебро, сыскали бъ, а не хотять къ тому дƀлу пристать, для того, что много потеряютъ назаводъ денегъ, а какъ они свой разумъ окажутъ, и потомъ ихъ ни во что промыслъ и заводъ поставятъ и отъ дƀла отлучатъ»[478]. Так ведь оно и было. Когда московское правительство признавало за благо «отписать на царя» имущество того или другого обывателя, этот последний лишен был всякой законной возможности отстоять его. И, конечно, это не могло способствовать ни развитию предприимчивости в московском населении, пи привлечению в страну чужеземных капиталов. А.Н.Пыпин справедливо заметил, что ошибочно изображать Котошихина каким-то единичным и злонамеренным отрицателем благоустроенного московского порядка. По части отрицательного отношения к этому порядку у даровитого подьячего были свои предшественники. В предыдущей главе читатель познакомился с двумя предшественниками Котошихина.
II. Юрий Крижанич 1
Хворостинин, Ордин-Нащокин и Котошихин являются представителями западного, – в тогдашней Москве еще только зарождавшегося, – направления русской общественной мысли. В. лице Юрия Крижанича мы имеем дело с не менее новым тогда слафянофильским, точнее – панславистским, направлением. Не следует однако, думать, что панславизм Крижанича имеет много общего с нашим позднейшим панславизмом или славянофильством. Крижанич не был природным жителем Московского государства[479]. Он пришел, – по его выражению, – жить под крылом милости русского царя, руководимый своей горячей любовью к славянскому племени. Ему хотелось поселиться среди того народа, который один изо всех отраслей великого славянского племени был не «подвержен» чужеземцам: «ляхов» он считал уже совершенно подчинившимися иностранному влиянию. В Москве он собирался составить грамматику и лексикон славянского языка, а также написать русскую историю. Наконец, он надеялся, как видно, попасть ко двору и, благодаря своим обширным и разнообразным знаниям, сделаться царским советником. Он много писал;
но для нас здесь важно его незаконченное сочинение, посвященное политике (Политичныя Думы)[480]. Трудно сказать, в каком виде представлялась Крижаничу русская жизнь до его приезда в Москву. Но мы ясно видим, что его московские впечатления были не из приятных. Неутомимый защитник славянства и непримиримый противник «немцев», он горько упрекал иностранных путешественников в том, что они писали о московском народе «срамотныя солганныя повƀсти». Но при этом он сам был вынужден признать, что не все ложь в «срамотныхъ повƀстяхъ». Вот печальный пример, к сожалению, до сих пор не устаревший. «Да бы ты, Борисе, весь широкій свƀтъ кругомъ обшелъ,нигдƀ не бы нашелъ тако мерзкого, гнюсного и страшного пьянства, яко здесь на Руси»[481]. Неприятно поразили Крижанича Москвичи также своею «неумƀтельностью», «обманливостью» и вытекающей из нее недоверчивостью[482]. Вообще весьма много «несподобій» заметил он в людях московского государства. Но наш панславист утешал себя тем соображением, что замеченные им крупные недостатки московского народа происходят не от «уроженія» и не от веры, – как это утверждают, по его словам, инородцы, – а от «злого законоставія». О «русакахъ» говорят, что они не делают ничего хорошего иначе, как из-под палки; «немцы» об᾽ясняют это скотской природой «русаков»[483]. Крижанич с жаром восклицает по этому поводу, что «то есть сама (т.-е. одна. Г. П.) ложь». Если многие «русаки» поступают хорошо не из любви к добру, а из страха наказания, то причина этого лежит в московском «крутом владании», вследствие которого сама жизнь становится им «мерзкой». Попади в такие условия немецкий или любой другой народ, – у него возникнут подобные же или еще худшие недостатки. Главным источником зол в Московском государстве служит, по мнению Крижанича, именно «крутое владание». При умеренном «владании» государство это было бы вдвое более населенным. «Крутое владание» больше препятствует умножению населения, нежели стихийные бедствия[484]. Эти мысли Крижанича о последствиях «крутого владения» напоминают известный афоризм Монтескье: «Les pays sont cultivйs non en raison de leur f ertiliй, mais en raison de leur libertй» Крижанич, по всей вероятности, вполне согласился бы в этом случае с автором
«Esprit des lois»; хотя, как это понятно само собою, он не мог бы сойтись с ним в определении понятия свободы. Неприятно поразило Крижанича отсутствие правосудия в Московском государстве. Он объяснял его тем, что служба приказных очень плохо оплачивалась. Но, понимая причину зла, он все-же не мог помириться с ним. По его словам, положение было таково, что каждый представитель учреждений, на обязанности которых лежала охрана собственности, как-будто говорил ворам: «воруйте, братцы, слободно, разбіяйте, крадите, и мне дƀлъ (долю) приносите: и все вамъ будетъ просто (прощено)». В виду этого Крижанич удивлялся не тому, что в Москве было много воров и разбойников, а тому, что там еще могли жить «люди праведны». Убедившись в том, что самая главная беда «русаков» заключается в свойственном их государству «крутомъ владаніи» и «зломъ законоставіи», Крижанич наметил целую программу реформ. Ключевский сказал, что, читая выработанный им проект преобразований, невольно воскликнеш: «Да, это программа Петра Великого, даже с ее недостатками и противоречиями»[485]. Это и так, и очень не так. Программа Крижанича в самом деле во многих отношениях напоминает программу Петра. Подобно Петру, он придавал огромное значение развитию производительных сил страны. Он твердил, что в бедной стране беден и государь. Мало того, он хотел, чтобы правительство было внимательно к низшему слою населения: «гдƀ бо суть черняки многи и богаты, тамо и краль и властели да боляры есуть (т.-е. суть) богаты и сильны». Это замечание ученого хорвата напоминает слова основателя физиократической школы в политической экономии Франсуа Кенэ: «pauvres paysans, pauvre royaume; pauvre royaume, pauvre roi». Такую же мысль мы встретим в книге современника Петра, крестьянина Посошкова «О скудости и богатстве». Наличность этой мысли в книге Посошкова дала некоторым нашим писателям мнимое основание хвастливо утверждать, что в России предвосхищено было одно из величайших открытий западно-европейской экономической науки. Говорить такие пустяки можно было только при полном незнании истории политической экономии и экономической политики западно-европейских государств. То «открытие», что государь беден там, где бедно трудящееся население страны, сделано было «инородными» гораздо раньше, нежели его усвоили себе славянские писатели. И не подлежит сомнению, что у «инородных» оно стало известно теоретикам уже после того, как к нему пришли люди практики: именно те, обязанностью и интересом которых было наполнение казенного ящика. Сам Крижанич следующим образом поясняет, почему правительство должно заботиться о благосостоянии трудящейся массы: «краль[486], властели и боляры, тако имаютъ справлять черняковъ, да будутъ могли всегда что отъ нихъ взять». Тут ясно, что
и для него дело не столько в «черняках», сколько в возможности «взять»[487]. Впоследствии теорема: «бедность трудящейся массы обусловливает собой бедность страны» перестала соответствовать экономической действительности. Социалисты справедливо говорили, что материальное положение трудящейся массы хуже всего как-раз в богатых странах. И мы увидим, что самому Крижаничу пришлось отметить в своей книге это мнимо парадоксальное явление. Но в его время развитие капитализма только еще начинало опровергать, самим ходом своим, указанную теорему. Поэтому ее признавали и повторяли в Западной Европе очень многие теоретики и практики. У них заимствовал ее и «сербенинъ Юрій Иванычъ», как называли Крижанича московские люди. Но, как бы там ни было, он настоятельно советовал развивать производительные силы московской земли и в этом отношении действительно сходился с Петром. На вопрос, какое государство можно назвать богатым, он отвечал, что богато то, в котором много золота, серебра и иных руд; еще богаче то, которое изобилует материалами для одежды и «вещми къ ƀденію и къ питію пригожими»; всех же богаче и сильнее то, где развито «всяко рукодƀліе», где процветает морская торговля. Это мы видим в Англичанской и в Брабанской земле (т.-е. в Нидерландах. Г.П.). Тут с ним вполне сошелся бы Петр, ездивший учиться в Голландию.
2
Но дальше начинается важное различие. Между тем как Петр любил «инородныхъ» и привлекал их в свое государство, Крижанич их терпеть не мог: он проповедывал «гостогонство», – иначе «ксенеласію», – и «запертіе рубежевъ». Он утверждал, что нашему народу выгоден и нужен «предобрый законъ», воспрещающий подданным московского государя скитаться по чужим землям, а «всякимъ инородникомъ прехажать и разглядать нашихъ державъ». Он до такой степени дорожил «запертіемъ», что относил его к числу «основательных столпов и подпор» Московской Руси наряду с православной верой, самодержавием, нераздельностью государства и народной независимостью. В этом отношении Крижанич сильно отставал не только от Котошихина, но и от Курбского, который, как помнит читатель, ставил в вину Ивану IV между прочим это самое «запертіе рубежевъ». Склонность Крижанича к «запертію» находится в прямом и резком противоречии с его заботами о развитии производительных сил страны, ради которого он советовал вызывать в Россию из-за границы, хотя бы и за большую плату, хороших ремесленников для обучения русских людей. Точно так же взгляд Крижанича на крупную торговлю, как на одно из необходимых условий развития
народного богатства, довольно плохо уживался с другим его взглядом, согласно которому торговцы являются «безделниками и хлебогубцами», вследствие чего правительство имеет право меньше церемониться с ними, нежели с каким бы то ни было другим классом населения. Подобные противоречия, очень странные в таком образованном человеке, отчасти об᾽ясняются, пожалуй, тем, что его главное сочинение дошло до нас не вполне обработанным. Занимаясь окончательной его отделкой, Крижанич, может быть, сумел бы изложить свои взгляды в таком виде, что они перестали бы казаться нам несогласимыми или по крайней мере очень трудно согласимыми между собой[488]. Но если это и так, то во всяком случае «запертіе» и крайне резкие отзывы о торговцах делают сомнительным полное тождество программы Крижанича с программой Петра. Кроме того, нужно иметь в виду, – и это, конечно, самое главное, – что Крижанич совсем не так, как Петр, относился к важнейшим особенностям московского общественного быта.. Он писал, что краль есть божий наместник и «живое законоставіе»; что его власть не ограничена, а действия не подлежат суду человеческому; наконец, что краль имеет право собственности на все находящееся в его государстве. Встречаясь у него с такими взглядами, начинаешь думать, что против его политического учения ничего не возразил бы сам Иван Грозный. Но очень скоро убеждаешься, что самодержавие Грозного представлялось Крижаничу злейшей тиранией, а этот убежденный сторонник самодержавия был непримиримым врагом тирании. На вопрос москвитянина Бориса: «что есть тиран?» западный славянин Хервой со страстью отвечает в одном из его диалогов: «тиранъ есть разбойника народный, небоячься суда, ни муки. Есть катъ безъ судца и закона. Есть человƀкъ, кій есть заверголъ (отвергъ) человечество. Есть чертъ в тƀло видно облеченъ. Могелъ бо бы едною своею рƀчію неконечно добро учинить... а не хочетъ. А нашимъ языкомъ тиранъ слыветъ людодерецъ». Тирань – волк, а краль должен быть пастырем. Честь краля выше всех видов чести «под небом», а тиранство есть самая большая «кралевская срамота». Крижанич указывал на Грозного как на самого жестокого «людодерца», действия которого взывали к небу о «помщеніи»[489]. Наш «сербенинъ» был уверен, что пресечение династии Рюрика явилось божиим наказанием за «людодерство» царя Ивана Васильевича. Конечно, такое решительное порицание жестокостей Ивана IV само по себе еще не представляло бы чего-нибудь оригинального. Мы видели, что все московские попытки брать с государей записи вызваны были желанием предупредить повторение таких жестокостей. Но Крижанич не ограничивался ненавистью к «людодерству» Его понятие о неограниченной власти государя существенно отличалось от ходячего взгляда на нее жителей Московского государства. Недаром он говорил,
что царская доброта «при злыхъ законехъ не корыстна». В высшей степени замечательно, что этот решительный защитник самодержавия, утверждавший, что даже ненавистное ему людодерство» лучше охлократіи[490], считал нужным положить известные пределы для «кралеской» власти. Он говорил, что «всеконечная область» (т.-е. безпредельная власть) супротивна божьему и уроженному законоставію, т.-е. законам бога и природы. Бог дает власть на созиданіе, а не на разореніе. А природа «повƀдаетъ» нам, что «не кралества зарад кралевъ, но крали зарадъ кралестовъ есуть поставлены». – «И сія рƀчи не груститъ ми ся множо кратъ повторять: а бо бы ю морали крали (т.-е. ее должны были бы короли) много кратъ въ мысли обращать». Согласно учению сербенина Юрия, кралевская власть имеет троякое происхождение. Она может быть получена по наследству, завоевана или вручена данному лицу народом[491]. Так как очевидно, что завоеватель властвует лишь до тех пор, пока завоеванные не станут сильнее его, то, в сущности, остается только два законных источника власти. Но по наследству никто не может передать больше того, чем сам имеет. Вследствие этого кралевская власть не может законно выходить за пределы, которые ставят ей «избиральники». Эти же последние не могли дать кралю право по своему произволу делать добро или зло: «продать, отчужить, спустошить, разорить». И хотя раз выбранный государь не подлежит человеческому суду, но он все-таки грешит против бога и природы, когда нарушает естественные права своих подданных. Это напоминает то, – думаю, уже вполне хорошо известное читателям, – различение, которое делал Бодэн между «вотчинной монархией» и монархией европейской. Правда, каждый по-своему истолковывает волю бога и природы; поэтому ссылка на нее всегда оставляет неопределенным как-раз то, что требуется определить. Но мысль Крижанича удачно дополняется ходом его рассуждений. Он приводит, передавая их своим самодельным славянским языком, слова, сказанные израильтянам пророком Самуилом: «Вашіе сыны хочетъ краль емать: и творить себƀ коньников, и предотечь, и войводъ: вашіе нивы, и винограды хочетъ емать: и давать слугамъ своимъ: вашіе рабы и рабыни и скотъ емать: и поставлять в дело свое. Вашіе сƀтвы и стада обдесятинить[492]: и давать слугамъ своимъ. И вы будете ему рабы». Слова эти легко могутъ быть истолкованы как довод отъ писания в пользу деспотизма. Но у нашего автора они приобретают совсем другое значение. «Израильцы, – говоритъ онъ, – тогда бяху запросили краля отъ Бога, недовольны будучь Самуиломъ судцемъ и пророкомъ, мужемъ святымъ, коего имъ Богъ бяше наставилъ. За то разсорженъ Господь есть заповƀдалъ произъявить имъ тяготы, которыя имаше чинить краль». Некоторые изъ действий, перечисленных
Самуилом как возможные действия будущего короля, кажутся Крижаничу явно неправильными, – напр., отнятие у подданных принадлежащих им нив, виноградников и скота. Он ссылается на Ахава, который, по рассказу Библии, тщетно пытался купить у Навота его виноградник. Если бы израильский краль имел право отнимать у подданных их имущество, то он силой отобрал бы понравившийся ему виноградник , после того, как Навот отказался добровольно уступить его. Но Ахав этого не сделал, «або тоя области (власти) не имаше»: по совету жены он стал судиться с Навотом, выставив против него лжесвидетелей. Рассказав о поступке Ахава, Крижанич дипломатично прибавляет, что ему неизвестно, как поступили бы в подобном случае нынешние крали. Конечно, он не мог не знать, что московские государи не вели судебных споров со своими холопями» и сиротами, а безцеремонно отписывали на себя их имущество, если только находили это почему-либо полезным или просто приятным. Но он счел благоразумным умолчать об этом. Зато с турецким султаном и с персидским шахом, – короче, с восточными деспотами, – он не находил нужным стесняться. О них у него прямо сказано, что они грабят своих подданных. И не только грабят подданных: они и детей своих убивают «будто по закону», приказывая считать это праведным. Мы не должны подражать им, – утверждает сербенин. Все это было написано ad usum delphini и все это значит, что нашему автору хотелось бы европеизовать Московское государство, заставив его отказаться от обычаев и, – что гораздо важнее, – от учреждений, свойственных восточным деспотиям.
3
Без всякого сомнения, идеалом для Крижанича служило французское королевство. Он прямо говорит, что самым славным и счастливым из всех является то государство, в котором не только развиты ремесла и торговля, но «и добры суть законы: якоже видимъ быть во Франскомъ кралеству»[493]. Вследствие этого своего пристрастия к французскому политическому строю он истолковывал законы бога и природы в том же смысле, в каком прежде пего истолковывал их Бодэн. Петр Великий не признал бы такого толкования. Он всеми силами души стоял за «вотчинную монархию», или, – чтобы употребить здесь выражение Крижанича, – за «крутое владаніе»[494]. Программа реформ Крижанича изложена им в воображаемом обращении московского царя к жителям своей страны. Прежде всего царь заявляет, что в
его земле до сих пор не было «добрых законов» и что он желает восполнить этот недостаток. «Хочемъ, – говорит он, – всякому стану и ряду людей дать сподобныя слободины тако да все будутъ своимъ жребіемъ и станомъ задовольны». По словам царя, он пересмотрел «законоставіе» разных государств, – греческого, французского, испанского, немецкого, польского, – и, выбрав оттуда годные законы, решил «щедро подаровать» их своим подданным. Прежде чем говорить о содержании этих годных законов, обратим внимание на формальную сторону законодательной утопии Крижанича. Известно, что в начале 1649 года закончилось составление Уложения, при выработке которого московское правительство пересматривало «законоставіе» разных государств. Кроме московского царского Судебника, оно обращалось между прочим ко второй части. Кормчей книги, заключающей в себе кодексы и законы греческих царей, и к Литовскому Статуту 1588 года. Из этого видно, что в своей утопии Крижанич заставляет царя поступать приблизительно так, как поступало московское правительство в своей кодификационной работе. Крижанич не забыл даже греческого «законоставія». Но на самом деле он имел в виду не греческий и уж в особенности не польский и не германский политический порядок. Как сказано мною выше, Крижанича больше всего привлекала к себе французская монархия. Неудивительно поэтому, что царь преимущественно ссылается у него на французов да еще, пожалуй, на испанцев, у которых высшее сословие имеет «пристойныя слободины»[495]. Составленный нашим автором проект «слободин» касается главным образом высших классов. Духовенство будет из᾽ято из ведения приказов и мирских судов. Кроме того, оно освобождается «от работ и от поборов всяких». Служилое сословие будет разделено на три ряда или стана. Именитые люди первого стана будут называться князьями. Каждый из них получит в свою власть один укрепленный город и один острог. Царю «видится», что достаточно будет двенадцати князей. Служилые люди второго стана названы будут боярами, а люди третьего, – «непристойно» называвшиеся до тех пор боярскими детьми, – племянами. Все эти три стана вместе будут именоваться верными слугами, дворянами и племенитыми людьми, но не холопами[496]. Принадлежащие к ним служилые люди «да ся не зовут уменьшальными именми, Борко, Владко; но цƀлыми именми, Борисъ, Владимиръ». Царь запрещает им бить челом, т.-е. кланяться до земли: «таковъ поклонъ да ся чинить единому Богу и святымъ Иконамъ: а людемъ да ся не чинить». Перестав быть холопами своего государя, служилые люди навеки увольняются «отъ Кнутья, отъ Батожья, и отъ Остуднаго кажненія (позорящего наказания), яково есть, Пятнаніе; носа, ушесъ, рукъ Отрƀзаніе». Их наказанием будет:
тюрьма, отставление от должности, ссылка и т.д. Царь обещает освободить их от всяких холопских работ и повинностей. По мнению Крижанича, все эти «слободины» не только не повредят королевской власти, но пойдут ей на пользу. В благоустроенных западных государствах не позволяют себе никакого «нечестія» ни народ, ни войско. В этих государствах верховная власть прочнее, нежели в Турции, где, при отсутствии свобод, государь подчинен «простыхъ пƀшихъ стрƀльцевъ глуподерзію». В то время, когда Крижанич писал свой проект реформ, у всех московских людей еще живы были в памяти впечатления, вынесенные ими из «бунташнаго времени». Поэтому он изображает проектируемые им «слободины» отчасти как гарантию против народных восстаний. Следуя примеру западных государств, царь установляет неделимость имений своих князей и властителей: «да ся и вашія отчины и помƀстія не дƀлятъ»[497]. Города получают в проекте Крижанича известное самоуправление; ремесленники организуются в цехи и избавляются от принудительных работ на государство[498]. Но, – следует заметить это, – права, даруемые торгово-промышленному классу, значительно меньше, нежели «слободины», достающиеся на долю служилых людей. Наш автор находит, что не следует давать торговцам вольности навсегда (in perpetuum), «но подъ именемъ Временного жалованія, кое ся всегда можетъ отнять». Считая торговцев «хлебогубцами и бездƀльниками», Крижанич, естественно, не видел надобности церемониться с ними. Царь говорит у него: «Межу иными пакъ народными и земскими пожитки еденъ есть, Добытокъ изъ торговства. Сію адда Корысть (будучь она велика и изрядна) мы есмо объявили и объявляемъ быть нашу»[499]. Это как-будто резко противоречит суждению Крижанича о поступке Ахава с Навотом. Но, объявляя торговую «Корысть» «нашей», краль хочет сказать лишь то, что за ним остается право делать своей монополией выгоднейшие отрасли торговли. Как мы уже слышали от М.Н.Покровского, в Московском государстве XVII века царь широко пользовался таким правом. Вполне одобряя это, Крижанич говорит, что торговля есть дело хорошее, почетное и даже «прямо кралевское», когда ведется не для личной выгоды, а для общей народной пользы. Таким образом, царские торговые монополии являются в его глазах средством удовлетворения народной, – т.-е., собственно, государственной, – потребности. Но необходимость прибегать к этому средству удовлетворения государственных потребностей поставлена у него в причинную связь с экономической неразвитостью Московского государства. Не занимаются торговлей, по его словам, те государи, подданные которых достаточно сильны для того, чтобы собственными средствами вести обширные торговые предприятия. Но и эти короли очень заботятся об интересах торговли: «при всемъ томъ Фряжеский (французский) краль
неустойно (постоянно) держаитъ великого посла въ Цареграду, а Англичанскій краль посланника, для ради единого торговства своихъ подданниковъ. А Хиспанскій и Портогальскій крали, для ради своего и своихъ подданниковъ торговства, высылаютъ на море всƀ свои ратныя силы, на спроважаніе Индƀйскихъ плутовъ (флотовъ)»[500].
4
Эти ссылки на заботливую охрану французским, английским, испанским и португальским королями торговых интересов своих подданных показывают, что вышеприведенный резкий отзыв Крижанича о купцах (»бездƀльники и хлƀбогубцы») не мешал ему понимать важное значение торговли в экономической жизни цивилизованных государств. При всем том неоспоримо, что он наделял их в своем проекте значительно меньшими «слободинами», нежели служилых людей. Еще меньше прав сулил его проект крестьянам (кметам, тежакам, чернякам). Крижанич заявляет: «Черняки да си не привлащаютъ слободъ» (не присваиваютъ свободъ). Они должны быть готовы «гъ данемъ и къ инымъ тяготамъ, на всяку кралеву заповƀдь, за всякую кралества потребу». Это, как видит читатель, не очень завидная участь. Но Крижанич утверждает, что таково положение низшего класса во всех европейских странах. Заговорив об этом положении, он делает чрезвычайно важное для истории теории замечание, идущее вразрез с его, уже знакомым читателю, правилом: «где бы суть черняки многи и богаты, тамо и краль и властели да боляры есуть богаты и сильны». Теперь мы узнаем от него, что хотя зажиточные люди живут лучше и обильнее в богатых странах, но положение земледельцев и бедных горожан, занимающихся ремеслами (»кои ся ручнымъ дƀломъ животятъ»), много лучше в бедном Московском государстве. Крижанич об᾽ясняет это тем, что в некоторых западных странах, – например, в Швейцарии, – каменистая почва гораздо хуже вознаграждает труд земледельца, а также что в богатых странах значительная часть населения не сеет для себя хлеба, вследствие чего «круто нужно (очень бедно) живетъ». За границей, по его словам, есть местности, где люди питаются хлебом, более похожим на землю, чем на настоящий хлеб. На Руси же самые бедные жители едят хороший хлеб, рыбу и мясо и пьют если не пиво, то по крайней мере квас. Этот благоприятный для Московской Руси отзыв мог быть подсказан желанием порадовать ее правителей, для которых, собственно, и предназначалось сочинение Крижанича. И нельзя не признать, что «сербенинъ Юрій Иванычъ» в слишком отрадном виде изобразил экономическое положение великорусского народа. Но была и правда в нарисованной им картине. В таких странах, где преобладает натуральное хозяйство, предметы первой необходимое и, в роде хлеба и мяса, гораздо доступнее для населения, нежели в странах, отличающихся значительным развитием товарного обмена[501]. Мы знаем теперь, что разделение общественного труда в Западной
Европе сопровождалось обеднением трудящейся массы. Таким образом, была, повторяю, неоспоримая истина в указанном противопоставлении Московской Руси Западу. Крижанич был первым по времени писателем, сделавшим такое противопоставление в книге, предназначавшейся хотя бы и для небольшого числа русских людей. Это противопоставление создавало достаточное логическое основание для постановки вопроса о том, не грешат ли против народа те, которые заботятся о развитии производительных сил страны? У самого Крижанича такой вопрос не возникал да и не мог возникнуть ни по общим условиям той эпохи, ни по особенностям его личного настроения: горячий панславист и убежденный противник деспотизма, Юрий Иванович не отличался очень большим народолюбием. Но русской интеллигенции XIX века, сильно дорожившей интересами трудящейся массы, пришлось затратить едва ли не наибольшую часть своих умственных сил на решение этого «проклятого вопроса». Крижанич говорит еще, что «въ нƀкоихъ окольныхъ державахъ» боярские и военные люди могут безнаказанно обижать крестьян. Это, повидимому, намек на Речь Посполитую. Но как ни справедлив этот намек сам по себе, невозможно допустить, чтобы Крижанич не знал, как сильно страдали «тежаки» Московского государства от всевозможных насилий со стороны высших сословий. Стало быть, тут он опять писал ad usu delphini. Награжденные «слободинами» подданные московского царя присягают ему на верность. Крижанич предусмотрительно составил для них длиннейшую формулу присяги. В свою очередь краль клянется соблюдать права своих подданных: «да мы и наши наступники будемъ должны (предъ кралевскимъ нашимъ вƀнчаниемъ) присягою себƀ обвязать: еже хочемъ вамъ, нашимъ вƀрнымъ подданникомъ, неподвижно обдержавать сія всія слободины, коя мы вамъ сада даемъ и даруемъ»[502]. Это второе обязательство было совсем не в духе московской вотчинной монархии. Когда, в январе 1654 года, Богдан Хмельницкий, принеся присягу на подданство московскому царю, попросил царского посла боярина Бутурлина присягнуть за государя в том, что не будут нарушены вольности малороссийского народа, то получил от него такой ответ: «Въ Московскомъ государстве прежним великимъ государямъ нашимъ присягали ихъ государские подданные, тажке и великому государю царю Алексею Михайловичу клянутся служить и прямить и всякого добра хотеть; а того, что за великаго государя присягать, никогда не бывало
и впредь не будетъ; тебƀ, гетману, и говорить объ этомъ не пристойно, потому что всякий подданный повиненъприсягнуть своему государю».
5
П.Безсонов упрекал Крижанича в том, что он «в самой стойкости основных народных начал готов видеть косность, препятствие к развитию, и хотел бы переломить их упорство, и самые начала пустить в ход переработки»[503]. Действительно, «хотел бы»! Читатель видел, что выработанный Крижаничем план реформ направлен был на превращение Московского государства из восточной в неограниченную монархию западно-европейского (французского) склада. Теперь пора отметить, что, отстаивая православие (vera fides), Крижанич имел в виду римский католицизм, а не греко-российское вероисповедание, являвшееся в его глазах не более как «схизмой». Точно также представление Крижанича о русской народности далеко не покрывается представлением о ней московских, – «официальных» и неофициальных, – славянофилов XIX столетия. Говоря о народности, эти славянофилы имели в виду собственно великорусское племя с теми особенностями его быта и его общественно-политических воззрений, которые развились и упрочились преимущественно в течение московского периода русской истории. А Крижанич сплошь и рядом смотрел на эти особенности как на «несподобія», унижающие русский народ и в корне подрывающие его благосостояние. Людям Московского государства он охотно указывая как на примеры, достойные подражания, на малороссов и на белоруссов. Это показывает, что его взгляд на русскую народность был значительно шире взгляда наших позднейших славянофилов и наших нынешних украйно-филов. Позднейшие словянофилы могли только рукоплескать Крижаничу, встречая у него такие строки: «nihil potest esse perniciosius alicui genti et regno, quam cum homines fastidiunt aut deserunt suos bonos mores, leges, instituta, et linguam: et assumunt alienos mores, et linguas; et conantur se transformare in aliam gentem»[504]. Должна была нравиться им и его склонность к «гостогонству» (»ксенеласии» тож). Но совершенно ясно, что если бы Московская Русь осуществила преобразовательную программу так долго занимавшего нас хорватского панслависта XVII века, то у него очень мало осталось бы от тех основных «начал», которые приводили в умиление московских славянофилов XIX столетия. В своем отношении к социально-политическому строю Московского государства (»крутому владанію») Крижанич был западником, между тем как Петр I, реформу которого так превозносили наши западники и так порицали наши славянофилы,
сам являлся чистокровным славянофилом в том смысле, какой это слово приобрело у нас в XIX веке. С Петром Крижанича сближает, – кроме отмеченной выше заботы о развитии производительных сил, – еще ненависть к «безделникам». До такой степени сближает, что, вопреки своему настойчивому желанию переделать политический строй Московского государства на французский лад, Крижанич сохранил в своем проекте тягловый характер этого государства. Высший класс несет, в его проекте реформ, обязательную государственную службу. Исключением из этого общего правила является лишь даваемое князьям позволение выходить в отставку, прослужив всего несколько лет. Этим отчасти предвосхищается в проекте Крижанича та «слободина», которой постепенно добилось для себя все русское дворянство в следующем веко. «Сочинение Котошихина, – говорит Ключевский, – не было никем прочитано в России до четвертого десятилетия минувшего (т.-е. XIX. Г.П.) века, когда его нашел в библиотеке Упсальского университета один русский профессор. Книга Крижанича была «на верху», во дворце, у царей Алексея и Федора, списки ее находились у влиятельных приверженцев царевны Софьи, Медведева и кн. В.Голицына; кажется, при царе Федоре ее собирались даже напечатать»[505]. Однако, только – собирались; книга осталась ненапечатанной. Подобными фактами определяются размеры влияния, какое могли иметь в тогдашнем Moсковском государстве люди, несомненно, представляющие собою родоначальников русской «интеллигенции». Размеры эти были до последней степени узки[506]. О непосредственном воздействии на общественную жизнь родоначальникам русской «интеллигенции» нельзя было и думать: у них не было аудитории, составляющей необходимое условие воздействия этого рода; оставалось заботиться о посредственном, – т.е. косвенном, – воздействии. Наиболее производительным его видом должно было представляться воздействие через посредство верховной власти. Неограниченный монарх легко может, если захочет, перестроить жизнь своего народа согласно указаниям разума. Так рассуждали люди, не имевшие понятия о действительных причинах общественного развития. Поэтому для них вопрос должен был сводиться лишь к тому, захочет ли данный неограниченный монарх выступить в роли преобразователя. Первым московским западникам это представлялось до такой степени невероятным, что они, испытывая непреодолимую «тошноту» у себя дома, бежали или только собирались бежать за границу, а не то – искали спасения от безобразной действительности за монастырскими стенами. Но Крижанич верил в возможность коренной реформы сверху и потому смело обращался к московскому государю. «О царю, – восклицал онъ, – ты въ рукахъ держишь Чудотворный
Моисеевъ Прутъ (жезл): и можешь нимъ творить дивна во владанію чудеса». С помощью Моисеева прута московский государь может «лехко поправить всякую сказу и поблудокъ (порчу и ошибку), аще бы ся въ немъ нашло кое нерядіе въ народныхъ справахъ (делах)». В дальнейшем изложении мы увидим, что надежда на «Мосиеевъ Прутъ» временами исчезала в русской интеллигенции, а временами воскресала с новой силой. Мы не без удивления встретимся с ней в некоторых заграничных произведениях А.И.Герцена и в некоторых легальных статьях Н.К.Михайловского. Выше было сказано, что Крижанич прожил довольно долгое время в сибирской ссылке. Читатель, любящий исторические сближения, отметит, пожалуй, что с этой стороны судьба «сербенина Юрія Иваныча», питавшего такую твердую веру в «Моисеев Прут», преобразует собою судьбу большого числа русских «интеллигентов». Но это мимоходом. Я предпочитаю сделать сближение другого рода. Белинский писал в статье «Мысли и заметки о русской литературе», что литература эта «положила начало внутреннему сближению сословий, образовала род общественного мнения и произвела нечто в роде особенного класса в обществе, который от обыкновенного средняго сословия отличается тем, что состоит не из купечества и мещанства только, но из людей всех сословий, сблизившихся между собою через образование, которое у нас исключительно сосредоточивается на любви к литературе»[507]. «Особенный класс в обществе», созданный, по словам Белинского, литературой, и есть та русская интеллигенция, родоначальниками которой выступают перед нами в XVII в. люди в роде И.А.Хворостинина, В.А.Ордина-Нащокина, Г.К.Котошихина и даже Юрия Крижанича, хотя этот последний и не был природным россиянином. На самом деле целого общественного класса интеллигенция у нас никогда не составляла да и нигде не может составлять. Это был лишь тонкий общественный слой; но этот тонкий слой сыграл важную роль в истории русского просвещения. Белинский был прав, говоря, что к этому слою принадлежали люди всех сословий, сближавшиеся между собою через образование. Но верная мысль изложена им в неправильной перспективе: по его словам, «класс», созданный в России литературой, состоит не только из купечества и мещанства, но... и т.д. Выходит, как-будто купечество и мещанство составляют ядро этого «класса». Однако, в XVII веке мы совсем не видим между родоначальниками русской интеллигенции людей купеческого и мещанского происхождения. В течение следующих двух столетий купечество и мещанство давали своих представителей в ряды интеллигенции, но вплоть до 60-х годов XIX века, когда выступили разночинцы, они оставались там в меньшинстве[508]. Этим русская интеллигенция отлеталась, напр., от французской, где издавна преобладали люди того сословия, которое у Белинского названо средним, а во Франции
носило название третьего (tier йtat). И это понятно. Мы уже знаем, что во Франции монархическая власть в своей борьбе с феодалами опиралась преимущественно на третье сословие. Этим относительным различием двух исторических процессов об᾽ясняется и только-что указанное мною различие в составе интеллигенции России, с одной стороны, и Франции – с другой. Ниже мы увидим, каким образом относительное своеобразие социального состава русской интеллигенции, обусловленное относительным своеобразием русского исторического процесса, отразилось на дальнейшем ходе развития русской общественной мысли.
Глава X Первые западники и просветители (Окончание)
В.В.Голицын I
В.А.Ордин-Нащокин, И.А.Хворостинин, Г.К.Котошихин не нашли в окружавшей их общественной обстановке приложения для своих богатых духовных сил. Поэтому каждого из них так или иначе «тошнило» в современной им Москве. Судьба кн. В.В.Голицына была другая. Он, несомненно, был убежденным западником. Но обстоятельства сложились так, что он имел возможность по крайней мере попытаться видоизменить окружавшую его некрасивую действительность. Поэтому «тошнота» вряд ли была преобладающей чертой его настроения. Как преобразователь, он должен был вести упорную борьбу со множеством практических препятствий. Известно, что борьба только закаляет сильные характеры. Но кн. В.В.Голицын едва ли обладал очень сильным характером. К тому же политический строй Московского государства делал доступным для этого родовитого боярина только один вид борьбы: борьбу с помощью придворной интриги. Придворная интрига дала ему на несколько лет почти всю полноту власти. Она же приготовила ему очень жалкий конец. В этом отношении он был, как у нас говорилось когда-то, в своем роде не последний. И после него на Руси являлись реформаторы, прибегавшие к тому же оружию. И все они кончали не многим лучше, нежели кн. В.В.Голицын. В каждом положении есть своя об᾽ективная логика. В.В.Голицын много читал и учился. Когда, после его падения, правительство Петра I, по старому московскому обычаю, «отписало на государя» имущество опального служилого человека, в его библиотеке найдены были следующие книги: Похвала благочестивым государем царем, сложение иеромонаха Антония Русаковского. Книга печатная благодарственная к В. Государем. Книга писанная – вручение привилие на академию. Книга писанная о гражданском: житии или о поправлении всех дел, яже належат обще народу (эта книга, конечно, должна была сильно привлекать к себе внимание реформатора. Г. П.)[509]. Книга
Тестамент или завет Василия царя Греческого, сыну его Льву Философу. Како царица Олунда близнятъ породи и како ихъ свекровь и ее мать цесаревна хотя погубите. Граматикъ печатной. Книга писанная на польском языке. Книга Иова Лудольфа письменная. Книга письменная, перевод от вселенских патриархов Мелетия дьякона. Книга перевод с польского письма с печатной книги, глаголемой Алкоран Махметов. Книга с польского письма с истории о Магилоне Кралевне. Книга о послах, где кому в котором государстве поклониться. Четыре книги немецких. Четыре книги письменныя о строении комедии. Восемь книг календарей разных лет. Книга рукописного права, или устав воинской Голландской Земли. Певчая немецкого языка. Граматикъ польского и латинского языка. История письменная польского языка. Конский лечебник. Книга на немецком языке всяким рыбам и зверям в лицах. Судебник. Родословная. Артикульная. Рукопись Юрия Сербенина. Летописец Киевский. Соловецкая челобитная. Книга о ратном строю. Книга землемерная немецкая[510]. Своим составом библиотека В.В.Голицына напоминает о том переходном времени, когда в Московском государстве польское влияние боролось с «немецким» и было сильнее ого. Польскому влиянию предшествовало, как известно, западно-русское. В.В.Голицын охотно оказывал услуги ученым киевлянам. Когда возгорелся спор о времени пресуществления св. даров, он, – уже бывший фаворитом царевны Софьи, – принял сторону западно-русских богословов против греческих[511]. Оно и не удивительно. С тогдашними греками решительно нечего было делать этому убежденному западнику. Польское влияние побудило его к изучению польского и латинского языков. В его библиотеке мы видим грамматики того и другого языка, а также несколько польских книг. Латинским языком он владел так хорошо, что вел на нем переговоры с иностранными послами. Но состав его библиотеки еще не дает понятия о широте его умственных интересов. Де-ла-Нэвиль рассказывает, что В.В.Голицын вел с ним (на латинском языке) разговор обо всем происходившем в Европе, «особенно об английской революции (et surtout de la rйvolution d'Angleterre)»[512]: недаром в библиотеке просвещенного князя находилось рукописное сочинение «о поправлении всƀхъ делъ, яже надлежатъ обще народу». Описывая прием, оказанный ему князем Голицыным, де-ла-Нэвиль замечает, что можно было вообразить, будто находишься при дворе какого-нибудь
итальянского государя. По словам того же де-ла-Нэвиля, дом Голицына был одним из самых великолепных в Европе: он был «покрыт медью и украшен очень богатыми драпировками и весьма интересными картинами»[513]. Соловьев приводит описание этого дома, сделанное одновременно с описанием библиотеки при конфискации правительством имущества кн. Голицына. «В палате подволока накатная, прикрыта холстами, в середине подволоки солнце с лучами, вызолочено сусальным золотом; круг солнца беги небесные с зодиями и с планеты писаны живописью; от солнца на железных трех прутах паникадило белое костяное о пяти поясах, в поясе по осьми подсвечников; цена паникадилу сто рублей. А по другую сторону солнца – месяц в лучах, посеребрен; круг подволоки в двадцати клеймах резных позолоченных, писаны пророческия и пророчиц лица[514]. В четырех рамах резных четыре листа немецких (вероятно, гравюры. Г.П.), за лист по пяти рублей». Кроме того, палаты Голицына были украшены зеркалами и портретами великих князей и царей: великого князя Владимира Киевского, Ивана Грозного, Феодора Ивановича, Михаила Феодоровича, Алексея Михайловича. Феодора, Ивана и Петра Алексеевичей. Упоминаются еще какие-то четыре персоны королевских. Но лучше опять уступить слово обстоятельным царским писцам. «В той же палате 46 окон с оконницами стеклянными, в них стекла с личинами. В спальне в рамах деревянных вызолоченных землемерные чертежи печатные, немецкие, на полотне; четыре зеркала, две личины человеческих каменных арапския; кровать немецкая ореховая, резная, резь сквозная, личины человеческия и птицы и травы; на кровати верх ореховый же, резной, в середине зеркало круглое; цена 150 рублей. Девять стульев, обитых кожами золотными; кресло с подножием, обито бархатом». Вообще было чему подивиться наивным москвичам в доме князя Голицына. Вот, например, они занесли в свою опись, кроме всего вышесказанного, «немчина на коне, а в лошади часы»; или: «Три фигуры немецкия ореховыя, у них в срединах трубки стекляныя, на них по мишени медной, на мишенях вырезаны слова немецкия, а под трубками в стекляных чашках ртуть» (барометры? Г. П.)[515]
II
Обстановка роскошного дворца В.В.Голицына убедительно говорила в пользу его европейских вкусов. Но обстановка, это – внешность. Посмотрим, каковы были преобразовательные планы просвещенного князя. Еще в царствование Феодора Алексеевича ему было «указано» ведать ратные дела для лучшего устроения и управления царского войска. У этого дела с ним были выборные стольники, стряпчие, дворяне, жильцы, городовые дворяне и дети боярские, а также генералы и полковники рейтарских и пехотных полков. Работа этой, – как ее называет Соловьев, употребляя нынешний термин, – комиссии привела между прочим (в январе 1682 г.) к уничтожению местничества. Позволительно думать, что этот плод деятельности ратной комиссии получился не без влияния В.В.Голицына, много думавшего о преобразовании московского войска и, конечно, понимавшего, какой вред приносило местничество военному делу. По всему видно, что он всеми силами души стремился к власти и готов был ради нее входить в сделки со своей совестью. Но у него не заметно старых боярских притязаний. Если верить де-ла-Нэвилю, он «очень презирал сильных (les grands) по причине их неспособности» и давал дорогу только даровитым людям, за что московская знать (familles patriciennes) платила ему ненавистью. Он доказывал патрицианским семьям необходимость учить своих детей, а для этого отдавать их в польские школы или приглашать на дом польских гувернеров. Характеризуя широкие планы Голицына, де-ла-Нэвиль говорит, что он хотел «населить пустыни, обогатить нищих дикарей, сделать их людьми и превратить трусов в храбрых, а пастушеские хижины в каменные дворцы». Все это широковещательно, но, к сожалению, неопределенно. И всего досаднее неопределенность широковещательных выражений де-ла-Нэвиля там, где речь идет у него о намерении князя-западника «освободить крестьян (affranchir les paysans)»[516]. По поводу этого намерения Ключевский справедливо говорит, что мысли о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше, как полтора века спустя после Голицына[517]. M.H.Покровский думает, что Голицын собирался не освободить крестьян, а лишь более точно определить их повинности. Трудно с уверенностью сказать теперь, как оно было на самом деле. Вот слова де-ла-Нэвидя: «Так как намерение этого князя заключалось в том, чтобы поставить это государство на равную ногу с прочими, то он велел доставить себе описание всех европейских государств и их правительств. Прежде всего он хотел освободить крестьян и отдать в их распоряжение земли, ими обрабатываемые в пользу
царя. За это они платили бы ежегодную подать, которая, по его вычислению, более чем на половину увеличила бы доход этих государей (т.-е. царствовавших тогда Петра и Ивана. Г. П.)[518]. Ключевский полагал, что так как, по плану В. В. Голицына, за дворянами оставалась обязанность военной службы, то подать, которую уплачивали бы крестьяне за свои земельные участки, должна была увеличить дворянские оклады денежного жалованья и «служить вознаграждением за потерянные помещиками доходы с крестьян и за отошедшие к ним земли». Но за чьи же земли? У де-ла-Нэвиля речь идет не о помещичьих землях, а о тех, которые обрабатывались крестьянами «в пользу царя». Странно, что Ключевский не обратил на это внимания. На основании точного смысла слов де-ла-Нэвиля, можно предположить, что В.В.Голицын собирался освободить, – или, если угодно, определить и перевести на деньги повинности, – крестьян дворцовых волостей. Если допустить это предположение, то выйдет, что один из самых передовых московских западников конца XVII века, получив власть в свои руки, мечтал об осуществлении реформы, более или менее однородной с тою, которая совершилась во Франции в 1315 г. по указу короля Людовика X.Как мы уже знаем, этот король основывал принятую им меру на том соображении, что «по естественному праву всякий должен родиться свободным» (Selon le droit de nature chacun doit naоtre franc). Из записок де-ла-Нэвиля не видно, доходил ли до подобных соображений московский князь-западник, читавший «Книгу, писанную о гражданском житии» и интересовавшийся английской революцией. Но факт тот, что его намерение не осуществилось. Вследствие разницы экономических условий для Москвы конца семнадцатого столетия была преждевременной мысль о мере, с успехом принятой во Франции в начале четырнадцатого.
III
Предположив, что задуманная В.В.Голицыным крестьянская реформа должна была распространяться только на дворцовые волости, – или, может бык, еще на волости черносошных крестьян, – надо, однако, иметь в виду еще следующие слова де-ла-Нэвиля: «Он хотел также, чтобы дворянство путешествовало и чтобы оно училось военному делу в других странах; ибо он намеревался превратить в хороших солдат легионы крестьян, земли которых остаются невозделанными, когда их ведут на войну. Вместо этой безполезной для государства службы[519] он собирался обложить их необременительным поголовным денежным налогом» (au lieu de ce service inutile а l'Etar, imposer sur chaque tкte une somme raisonnable). Эти слова могут довести до отчаяния своей крайней запутанностью. Превратить в хороших солдат легионы «даточных» рекрутов значило хорошо обучить
их военному делу. А заменить их безполезную для государства военную службу необременительной денежной податью значило избавить их от этой службы. Одно противоречит другому. Как это следует из других об᾽яснений де-ла-Нэвиля и как это думает Ключевский, Голицын собирался совсем отменить пополнение московского войска даточными рекрутами из тяглых людей и холопов, так что «превращение» легионов крестьян в хороших солдат надо понимать как замену этих легионов дворянскими полками. На содержание дворянских полков и должна была итти денежная подать с крестьян, избавляемых от воинской повинности. Нельзя не признать, что этот замысел В.В.Голицына был неудачен: он шел вразрез с тогдашними военными нуждами Московского государства. Сообщив о намерении Голицына заменить обязательную обработку крестьянами царской земли денежною податью, де-ла-Нэвиль прибавляет, по своему обыкновению, очень сбивчиво: «Он хотел так же поступить с кабаками и с другими видами продажи предметов потребления (et autres ventes et denrйes), желая вызвать у этих народов надежду на обогащение и тем сделать их трудолюбивыми промышленными (industrieux)»[520]. Если вспомнить, что кабаки составляли тогда царскую монополию (»царевъ кабакъ»), то эти несносные слова станут несколько более ясными. Повидимому, де-ла-Нэвиль хотел сказать, что Голицын собирался предоставить подданным Московского государства свободу промышленной деятельности и этим вызвать у них экономическую предприимчивость. Блестящий фаворит царевны Софьи вообще очень много заботился о развитии промыслов в Московском государстве и об увеличении его торговых сношений с другими странами Запада и Востока. Он прокладывал дороги и установил правильную ямскую гоньбу между Москвой и Тобольском[521]. Он же отправил в Китай особого посла для упорядочения торговли московских людей с этой отдаленной страной. Даже частичное освобождение торгово-промышленной деятельности московских людей от бесчисленных и крепких уз, наложенных на них свойственным их государству «крутым владанием», принесло бы им огромную пользу. В.В.Голицын хорошо подметил главное зло народно-хозяйственной жизни Великороссии. Но, не говоря уже об особенностях его личного положения, «самобытность» этой жизни делала его планы неосуществимыми. Она вела за собою то, что для удовлетворения ближайших нужд государства приходилось жертвовать его более отдаленными, но не менее существенными потребностями. «Военно-финансовая необходимость» побуждала правителей Московского государства к реформам в духе сближения с Западом. Правительство стало заботиться о развитии производительных сил страны. Но в интересах этого развития оно, – преимущественно в лице Петра, – вынуждено было принять ряд таких мер, которые должны были, в последнем счете, сильно замедлять ход того самого развития производительных сил, для ускорения которого они
принимались. Так, желая поощрить предприимчивость купечества, Петр до крайности стеснил торгово-промышленную деятельность крестьянства. А между тем, – как уже сказано во введении, – в Московской Руси разделение труда между городом и деревней было очень далеко от той степени, какой достигло оно в передовых государствах Запада. Полное отсутствие свободы передвижения замедлило в ней развитие городов, но зато вызвало значительный рост кустарной промышленности в деревнях. На судьбах этой промышленности меры, принятые Петром и поддержанные его преемниками в интересах купечества, не могли не отразиться в высшей степени неблагоприятно: они должны были поддерживать ее в том состоянии первобытной неразвитости, в каком она так долго оставалась, а отчасти остается и в наши дни. Само собою понятно, что этим сильно замедлялся процесс экономического развития великорусского племени[522]. Если бы В.В.Голицыну удалось хоть несколько ослабить узы «крутого владания», то он значительно облегчил бы экономическую деятельность московских людей. Но можно думать, что он сам более или менее смутно чувствовал противоречивость того положения, в которое должны были попадать московские реформаторы благодаря социально-политической «самобытности» своей отсталой страны. Он хотел, чтобы московское государственное хозяйство окончательно приняло денежный характер. Для этого нужно было много денег. Чтобы добыть нужные деньги, он собирался между прочим установить государственную монополию для продажи русского пушного товара за границей[523]. И в то же время он сам, как мы видели, понимал, что государственные монополии не содействуют развитию частной предприимчивости: недаром он хотел ввести свободную продажу вина и других предметов потребления. Но ему, как после него Петру, приходилось считаться в своих преобразовательных планах с данной экономической действительностью.
IV
«Личные отношения князя Голицына не дали ему возможности даже начать практическую разработку своих преобразовательных замыслов, – говорит Ключевский: – связав свою судьбу с царевной Софьей, он пал вместе с нею и не принимал участия в преобразовательной деятельности Петра, хотя был ближайшим
его предшественником и мог бы быть хорошим его сотрудником, если не лучшим. В законодательстве слабо отразился дух его планов»[524]. Покойный профессор мог бы выразиться сильнее. Законодательство того времени, когда господствовал В.В.Голицын, отчасти шло путем, противным духу его преобразовательных замыслов. По свидетельству де-ла-Нэвиля, он хотел обезпечить московским людям свободу совести, а между тем в его время раскольники подвергались жестоким гонениям. Точно также ни одна практическая мера не была принята для облегчения участи крепостного крестьянства. Ключевский как нельзя лучше об᾽ясняет это: «Ничего не могло сделать и для крепостных крестьян правительство царевны, пристращавшей буйных стрельцов дворянами, пока не явилась возможность припугнуть дворян стрельцами и казаками»[525]. Не выдерживает даже и снисходительной критики то славянофильское мнение, что на Руси не было борьбы классов. Но неоспоримо, что Московское государство отличалось такой «самобытностью», благодаря которой даже классовая борьба случаев, служащая источником прогресса, очень часто служила в ней источником застоя. Если затруднительно было положение царевны Софьи, которой приходилось опираться на дворян против стрельцов и на стрельцов против дворян, то еще более затруднительно было положение ее просвещенного любовника, которому нужно было, в интересах самосохранения, направлять огромную долю своих умственных сил и своего внимания на разного рода придворные интриги. По-видимому, немало затруднений причиняла ему даже любовная связь с Софьей, давшая ему такую большую власть в государстве. Царевна страстно его любила[526]. А он, по словам де-ла-Нэвиля, сошелся с нею только потому, что хотел возвыситься (»il n'aimait que par rapport а sa fortune»). Тяготясь своей незаконной, но всем известной связью с ним, Софья хотела выйти за него замуж. Для этого нужно было предварительно постричь в монахини его жену, а ему, как уверяет де-ла-Нэвиль, этого вовсе не хотелось. В конце-концов он уступил и добился от своей жены обещания пойти в монастырь. Уже одна эта семейная драма должна была дорого стоить «царственныя большія печати и государственныхъ великихъ посольскихъ дƀлъ оберегателю», как именовался теперь Голицын. Но одновременно с нею происходила роковая для него борьба с партией Петра. Софья твердо верила в успех своего дела, а Голицын сомневался и в то же время не мог не видеть, что развязка приближается. Мог ли он сохранить необходимое для серьезной преобразовательной деятельности спокойствие духа?
Победа Петра дала ему почувствовать всю страшную унизительность положения московских служилых людей, подвергавшихся опале. Этот по-европейски-образованный князь вынужден был заговорить гнусным языком царского холопа? «Федька Шакловитый мнƀ Васькƀ крайній другъ николи не бывалъ», – писал он, едучи в ссылку, в челобитной, посланной царям из Ярославля. Из Яренска он, продолжая то же путешествие, снова писал государям: «Страждемъ мы бƀдные (т.-е. он с семьею. Г.П.) близъ конца живота своего; а оклеветаны вамъ, В. государямъ, невинно. Какъ насъ холопей вашихъ везли къ Тотмƀ и, не доƀзжая города, на рƀкƀ Сухонƀ, возки женъ нашихъ и дƀтей и дворовыхъ людишекъ въ воду обломились; и женъ и дƀтишекъ нашихъ малвыхъ насилу изъ рƀки вытаскали и лежали въ безпамятствƀ многое время». Из Пустозерска он опять писал по тому же адресу: «Нынƀ въ пути мучимъ животъ свой и скитаемся Христовымъ именемъ, всякою потребою обнищали и послƀдния рубашки съ себя проƀли»...[527]. Нечего и говорить: тяжело было в этом крайнем оскудении человеку, много лет обитавшему в одном из великолепнейших дворцов Европы. Но когда читаешь его челобитную, жалеешь, что великий Голицын, – как называл его де-ла-Нэвиль, – не предпочел молча перенести выпавшие на его долю огромные лишения и тем избежать унизительной необходимости лишний раз обозвать себя цaрским холопом Васькой.
V
Фаворит Софьи был родоначальником тех русских западников, которые для осуществления своих преобразовательных планов старались теми или другими путями приобрести личное влияние на верховную власть. Из их стараний редко выходило что-нибудь доброе. Чаще всего эти люди падали, растратив большую часть своих, нередко очень крупных, сил на безплодные, но неизбежные в их положении интриги. Западники, пытавшиеся осуществить общественные реформы снизу, иногда относились с суровым осуждением к надеждам преобразовать Россию сверху. В статье «Русский реформатор», написанной (в 1861 г.) по поводу выхода в свет книги барона М.Корфа «Жизнь графа Сперанского», Н.Г.Чернышевский удивляется, как мог Сперанский так долго упорствовать в предположении о возможности выиграть свое дело, т.-е. приняться за реформу: «Удивительно, говорим мы, такое грубое самообольщение в человеке такого тонкого ума; но это изумление надобно относить не к одним тем годам напрасной надежды, которые тянулись от возвращения Сперанского до кончины императора Александра Павловича. Столь же очевидною должна была бы представляться ему неосновательность его ожиданий и в прежнее время, когда он был государственным секретарем. Чтобы признать себя мечтателем, ему... нужно было бы тогда только сообразить характер и размер своих стремлений с качеством средств, которыми
он думал пользоваться. Видно, что он уже от природы был осужден на странную забывчивость в этом отношении». Чернышевский об᾽яснял забывчивость Сперанского горячностью ого стремлений. Он сравнивал его с человеком, который, желая обогатиться, берет лотерейные билеты, хотя и понимает разорительность этой игры. Сперанский, по его мнению, походил также на влюбленного, не замечающего даже очевидных недостатков любимой женщины. «Все такие люди смешны, их обольщения мелочны, – прибавлял он; – но они могут быть вредны обществу, когда обольщаются в серьезных делах. В своей восторженной хлопотливости на ложном пути они как-будто добиваются некоторого успеха и тем сбивают с толку многих, заимствующих из этого мнимого успеха мысль итти тем же ложным путем. С этой стороны деятельность Сперанского можно назвать вредной»[528]. Точка зрения Чернышевского была в этом случае точкой зрения публициста. С точки зрения историка, деятельность людей, подобных Сперанскому, не всегда представляется в том свете, в каком она представлялась идеологу передовых русских разночинцев в 60-х гг. XIX столетия. Историк не может не спросить себя: в самом ли деле существовали в эпоху того же Сперанского те «многие», которых могла бы при других условиях ввести в заблуждение его «восторженная хлопотливость»? И не послужила ли его неудача одним из исторических условий, способствовавших возникновению мысли декабристов о необходимости совсем другого способа преобразовательной деятельности? Что же касается кн. В. В.Голицына, то ему уже совсем некого было сбивать с правильного пути в современной ему Москве. К тому же хотя совсем не осуществились его широкие преобразовательные планы, но все-таки не без пользы для московской страны прошли те годы, когда он стоял у власти, т.-е. годы правления Софьи. Ключевский указывает на замечательный отзыв об этих годах сторонника Петра кн. В.И.Куракина. «Правление царевны Софьи Алексеевны началось со всякою прилежностью и правосудием всем и ко удовольству народному, так что никогда такого мудрого правления в Российском государстве не было; и все государство пришло во время ее правления чрез семь лет в цвет великого богатства, также умножилась коммерция и всякия ремесла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку... и торжествовала тогда довольность народная». Ключевский сопоставляет это свидетельство Куракина с тем сообщением де-ла-Нэвиля, что в Москве во время господства Голицына построено было более 3.000 каменных домов[529]. Из этого следует, что не совсем же даром трудился князь-западник. Де-ла-Нэвиль говорит: «Москва все потеряла с падением Голицына». Так должно было представляться ему во время этого падения[530]. Мы знаем теперь, что вышло иначе. За преобразовательными замыслами Голицына последовали
решительные преобразовательные действия Петра. Однако, остается тот указанный Ключевским факт, что в лице В.В.Голицына царь-реформатор отправил в далекую ссылку такого человека, который мог бы быть самым надежным его помощником по части реформ. Невольно мелькает мысль: гораздо лучше было бы им столковаться между собою. Но оба они действовали в условиях данной среды. А в этих условиях играла огромную роль дворцовая интрига, результатом которой и явилась борьба партии Софьи с партией Петра. В каждом положении есть своя об᾽ективная логика[531].
Глава XI Националистическая реакция западному влиянию
I
В 1655 году вологодское духовенство обратилось к архиерею с вопросом, можно ли пускать в церковь белоруссов и ходить к ним с требами. Архиерей почувствовал себя не в силах решить этот важный вопрос и, с своей стороны, апеллировал к патриарху. Патриарх, – Никон,– ответил так: «Если кто не истинно крещен, обливан, тех крестить снова, а умерших погребать»[532]. Это дает нам меру той поразительной ограниченности, до которой дошло сознание московских людей под влиянием их восточного быта. Если спрашивали, можно ли православному великорусскому священнику хоронить православного белорусса и не следует ли считать этого последнего нехристем на том единственном основании, что при крещении его, может быть, обливали водой, а не погружали в нее, то дальше итти, – вернее сказать: дальше пятиться, – было некуда[533]. Огораживаясь китайской стеной не только от немцев и поляков, но даже от своих братьев белоруссов и малороссов, великоруссы тем самым очень затрудняли осуществление той цели, которую их государи поставили себе со времени возвышения Москвы: собирание русских земель. Духовная исключительность так же сильно противоречила этой цели, как и московское «крутое владание», приводившее в ужас жителей Западной Руси. Более проницательные правители Московского государства понимали вред такой исключительности и старались хоть отчасти ослабить ее. Как мы уже знаем, настоятельные государственные нужды заставляли их вызывать в Московию западных ремесленников, техников и врачей. Это не нравилось московскому духовенству. Когда Борис захотел основать школы, в которых иностранцы учили бы молодых русских людей разным языкам, духовенство признало это вредным для религии. Оно говорило, что «обширная страна их едина по нравам, религии и языку:
будет много языков, встанет смута в Земле»[534]. Впрочем, сопротивление духовенства никогда не могло иметь очень большого значения в Московском государстве. В царствование Бориса в самой Москве началось подражание иностранным обычаям. Некоторые москвичи стали носить иностранный костюм и брить бороду, не смущаясь тем, что еще при митрополите Данииле (1522–1539 гг.) московское духовенство поместило в Кормчую книгу мнимое правило апостолов: «если кто браду брƀетъ и умретъ, не подобаетъ его хоронить, съ невƀрными да причтется». Авраамий Палицын уверяет даже в своем сказании, что Борис «ереси Арменстƀй и Латынстƀй послƀдствующимъ добръ потаковникъ бысть; и въ женскоподобныхъ образƀхъ любящей бровити, зƀло таковіи любими отъ него быша, и старые мужи въ юноши премƀняхуся»[535]. Духовенство роптало, но хорошо помнило пословицу: всяк сверчок знай свой шесток. Оно не решалось крепко спорить с верховной властью. Приверженцы старины обращались к патриарху (Иову), говоря ему: «Отецъ святой! зачƀмъ ты молчишь, видя все это?» Однако, Иов не решался нарушить молчание: «видя сƀмена лукавствія, сƀемыя въ виноградƀ Христовомъ, делатель изнемогъ, и, только къ Господу Богу единому взирая, ниву ту недобрую обливалъ слезами»[536]. Вообще неповоротливое мышление московских людей умело уступать, хотя и с медленностью, очевидной практической необходимости. Под ее давлением они побеждали свою боязнь сближения с иностранцами. И даже западным людям они подчас, – и ужь, конечно, совсем неожиданно для тех, – читали наставления на ту тему, что одно дело – вера, а другое дело – практические сношения. «Вƀра дружбƀ не помƀха, – говорили бояре Ивана IV послу просвещенной английской королевы Елизаветы, – вотъ ваша государыня и не одной вƀры съ нашимъ государемъ, а государь нашъ хочетъ быть съ нею въ любви и братствƀ мимо всехъ государей»[537]. Но беда была в том, что практические сношения с западными европейцами далеко не всегда были выгодны
московским людям. Благодаря своей отсталости, эти последние делались предметом эксплоатации для жителей более передовых стран. Поэтому недоверие к «латынам, лютерам и кальвинам» поддерживалось и усиливалось причинами, не имевшими ровно никакого отношения к религии.
II
Это мы видим уже в памятниках XVI века. Известная читателю «Бесƀда валаамских чудотворцев» содержит такие строки: «Царю и великому князю уставити по монастыремъ и вездƀ своею царскою смиренною (sic!) грозою, брадъ и усовъ не брƀти, не торшити и сану своего ничƀмъ не вредити, крестное знаменіе на лицƀ своемъ сполна воображати, каятися, говƀти по вся годы человƀку вездƀ, исповƀдоватися Господиви и отцемъ духовнымъ отъ двоюнадесяти лƀтъ мужеска пола и женска»[538]. Так как автором «Беседы» был, по всей вероятности, мирянин, то его заботливость о благочестии внутреннем и внешнем, включительно до крестного знамения и бритья бороды, может показаться преувеличенной. Но в самой «Беседе» мы встречаем ясное доказательство того, что заботливость эта имела, – хотя, может быть, и без ведома автора, – чисто мирское происхождение. «Горе роду христіанскому, – читаем мы там, – прельстившимся въ невƀрныхъ порты и шлыки[539] и имущимъ ихъ на себƀ, держащимъ ихъ невƀрныхъ прелести и впущающе ихъ въ землю свою и ищущимъ отъ нихъ помощи и хранящимся ими и ихъ храбростію израильтескіе[540] грады и станы[541]. Таковые нƀсть рабы, но враги именуются; понеже оставя Божію помощь, и отъ невƀрныхъ ищутъ помощи и надежи, и потомъ ими же обезчестени и изневолени будутъ, и грады ихъ ими обладали»[542]. Московские великие князья издавна и охотно принимали к себе на службу отдельных выходцев из других стран. Выходцы эти являлись конкуррентами московских служилых людей. И вот идеолог одного из слоев московского служилого класса сулит горе тому роду христианскому, который хочет защитить себя с помощью «невƀрныхъ». Он предсказывает, что христианский род будет «обезчещен и изневолен» иноземцами. По естественной ассоциации идей, неудовольствие на иноземцев, загораживавших им дорогу, порождало у московских служилых людей отвращение от их «портов», «шлыков» и «сиртыков»[543]. Торговля сближает различные племена и народы. Обмениваясь между собою своими произведениями, они обмениваются также идеями. По справедливому замечанию Маркса, товар возвышается над всякой религиозной, политической,
национальной и лингвистической ограниченностью. Но если в процессе обмена одна из сторон имеет большая преимущества над другой, то в числе его временных следствий может явиться у слабой стороны усиление религиозной и национальной ограниченности. Это мы видим на примере московского торгового сословия. Уже в XVI веке Московское государство не могло обходиться без западноевропейских товаров. Нуждаясь в этих товарах, его правители давали иностранным купцам большие льготы. Так, при Борисе ливонские купцы, выведенные в Москву еще Грозным, получили по 300 и по 400 рублей взаймы из царской казны, без роста, на бессрочное время. Двоим из них Борис дал жалованные грамоты на звание московских лучших торговых людей; они «ничего не тянули» с московскими посадскими людьми, а их дворы были освобождены от всяких податей и повинностей[544]. Легко понять, что это не могло понравиться московским посадским людям, которым приходилось «тянуть» очень много. Не могло нравиться торгово-промышленному населению Московского государства и то, что английская торговая компания еще при царе Федоре Ивановиче получила исключительные права[545]. По словам Костомарова, торговля с русскими была в XVI веке так же выгодна для англичан, как торговля с северо-восточными инородцами выгодна была для русских. «Захватив в свои руки торговые пути, произвольно возвышая цены на свои произведения, понижая на русские, англичане оказывали презрительное обхождение русскому народу и через то возбудили против себя неудовольствие»[546]. На почве такого неудовольствия естественно было развиваться всякого рода предубеждениям против иностранных «нехристей». После Смутного времени это неудовольствие не исчезло, потому что не была устранена вызывавшая его причина. При царе Михаиле иностранные купцы опять стали стремиться к приобретению разных привилегий. Между прочим, англичане желали получить право проезда по Волге в Персию. Имея нужду в деньгах, московское правительство готово было удовлетворить эту их просьбу; однако, оно сочло нужным посоветоваться с московскими гостями. Царь и патриарх спрашивали их: «А если дать английским гостям дорогу в Персию, то не будет ли от того московским гостям и торговым людям помешки и оскудения?» Поблагодарив великих государей за милость и заранее смиренно извинившись в том, что будут говорить по своему крайнему разумению, спроста, московские торговые люди и гости в общем высказались так: «Если с англичан брать пошлину, то государевой казне прибыль будет большая, а у торговых людей промыслы отнимутся, потому что им с англичанами не стянуть»[547]. И это «не стянуть» повторялось всякий раз, когда московские люди имели возможность откровенно
высказать свое мнение о торговле западно-европейских (не одних только английских) купцов в России. Московские торговые люди боялись попасть в кабалу к своим опасным конкуррентам. Когда, в самом начале царствования Федора Алексеевича, голландский посланник фан-Кленк добивался, чтобы позволено было голландцам торговать с персианами в России, а персианам ездить с шелком-сырцом через Россию в Голландию, то московские торговые люди опять выразили опасение, что иностранцы всех их «от торгу отлучат» и завладеют всеми промыслами. При этом они ссылались на пример восточной Индии, в которой голландцы завладели золотою и серебряною рудами и всякими другими промыслами, отчего и теперь великое богатство себе приобретают, а тамошних жителей привели до скудости»[548]. Московские торговые люди совершенно правильно оценивали те последствия, которые имела для туземцев восточной Индии колониальная политика голландцев. Стало быть, крайняя ограниченность, свойственная жителям Московского государства, не мешала им быть дальнозоркими там, где дело касалось их, сознанных ими, интересов. Но отсюда видно также, каким слабым чувствовал себя московский «торговый капитализм» в своих столкновениях с торговым капитализмом Запада.
III
Не будучи в состоянии «стянуть» в экономической борьбе с западным европейцем, московский торговый человек испытывал неприязненное чувство к нему, естественно распространившееся на все его обычаи, привычки и даже внешность[549]. Костомаров говорит: «Русские торговцы, как и вообще русские люди, оставались вне связи с образованным человечеством, а это сообщало им характер самоотдельности, неведения и враждебности ко всему остальному»[550]. Мы видели, – отчасти благодаря указаниям того же историка, – что враждебность ко всему остальному коренилась в экономической отсталости Московского государства и была тем неприязненным чувством, которое эксплуатируемый питает по отношению к эксплуататору. Но, как бы там ни было, враждебность ко всему остальному должна была в течение некоторого времени усиливаться по мере того, как учащались торговые сношения Московского государства с западно-европейскими странами. Как до Петра, так и долго после него русское купечество обнаруживало консервативное настроение и не поддавалось европеизации, хотя фактически делало такое дело, которое в конце-концов
должно было разрушить экономические устои старого московского быта. Это консервативное настроение до сих пор обнаруживается в «черносотенных» взглядах значительной части мещанства наших провинциальных городов, приводимого в благочестивый ужас торжеством новейшего капитализма. В трудящейся массе Московского государства «неведения» было еще больше, нежели в высших классах. Но и тут предубеждение против иностранцев обусловливалось далеко не одним «неведением»[551]. Народная масса предчувствовала, что поворот κ Западу отразится на ее житье-бытье в виде нового увеличения ее и без того почти невыносимых тягостей. К тому же служилые иностранцы, во множестве появившиеся в Московском государстве XVII столетия, смотря на московских людей сверху вниз, конечно, больше всего презирали именно трудящуюся массу, представители которой, – в виде «даточных» тяглых людей и холопов, – попадали под их начальство. Не удивительно поэтому, что и она не любила иностранцев. Псковские «гилевщики» в своей челобитной Алексею Михайловичу ставили на вид, что «при прежнихъ государяхъ, при царƀ Иванƀ Васильевичƀ иноземцы никакіе не служили». В той же челобитной они выдвигали обвинение против людей, хваливших «нƀмецкую вƀру». Это тем более замечательно, что в Пскове и Новгороде предубеждение против «нƀмецкой вƀры» было, по историческим условиям их развития, несравненно слабее, нежели в Москве. Ереси, возникавшие в этих городских республиках в течение XIV и XV столетий, находились в тесной идейной связи с «нƀмецкой вƀрой». Алексей Михайлович отвечал псковичам: «Царю Ивану Васильевичу и отцу нашему служили цари и царевичи в король Магнус, и многие иноземцы»[552]. Это была правда. И уж вовсе несомненно, что националистическая реакция не могла избавить Московскую Русь XVII столетия от необходимости привлекать служилых иностранцев. Но чем более давала себя чувствовать эта необходимость, тем более обнаруживалась националистическия реакция. При ограниченности, свойственной московским людям и доводившей их до того, что они, как мы уже знаем, спрашивали себя, не следует ли относить к числу «нехристей» православных белоруссов, реакционеры не могли не возмущаться приливом в Москву ученых из Западной Руси и даже из Греции. Сохранился отрывок следствия, производившегося в 1650 году над некоторыми представителями националистической реакции. Они принадлежали, по выражению Ключевского, к учащейся московской молодежи. Их было четверо: Лучка Голосов, впоследствии дослужившийся до степеней известных, Степан Алябьев, Иван Засецкий и дьячок Благовещенского собора Костка (Константин Иванов). Они возмущались знаменитым царским постельничим Ф.М.Ртищевым, выстроившим недалеко от Москвы монастырь и поселившим в нем тридцать малороссийских монахов, которые обязаны были учить желающих славянской и греческой грамматике, риторике и философии.
Сам Ртищев проводил в беседах с этими учеными малороссами целые ночи. Но «московская учащаяся молодежь» роптала: «вот учатся у киевлян греческой грамоте, а в той грамоте и еретичество есть». Из показаний Степана Алябьева видно, что он начал учиться по латыни у старца Арсения Грека, но когда этого старца сослали в Соловки, учиться перестал и азбуку изодрал, так как родные, а с ними Лучка Голосов и Ивашка Засецкий сказали ему: «перестань учиться по-латыни, дурно это, а какое дурно, того не сказали». Ф.М.Ртищев требовал, чтобы сам Лучка Голосов учился по-латыни у киевских монахов. Но Лучка противился. «Скажи своему протопопу, – говорил он вышеупомянутому дьячку Благовещенского собора Константину Иванову, – что я у киевских старцев учиться не хочу, старцы они не добрые, я в них добра не познал, теперь я маню Федору Ртищеву, боясь его, а вперед учиться никак не хочу, кто по-латыни научится, с правого пути совратится». Осуждала эта по принуждению учившаяся молодежь и поездки более или менее ученых москвичей в Киев для довершения образования. Тот же Лучка говорил своему другу Костке: «да и о том вспомяни протопопу[553]: поехали в Киев учиться Перфилка Зеркальников, да Иван Озеров, а грамоту проезжую Федор Ртищев промыслил; поехали они доучиваться у старцев киевлян по латыни, и как выучатся и будут назад, то от них будут великия хлопоты». Дьячок Костка сам не одобрял этой поездки. Он отвечал своему другу: «Мне и поп Фома говорил: скажи, пожалуй, как быть? Дети мои духовныя Иван Озеров, да Перфилий Зеркальников просятся в Киев учиться. – Я (Костка. Г.П.) ему говорил: не отпускай Бога ради, Бог на твоей душе это взыщет, а Фома говорит: рад бы не отпустить, да они безпрестанно со слезами просятся и меня мало слушают и ни во что не ставят». Этот последний ответ попа Фомы дает нам новую, несравненно более отрадную черту для характеристики «учащейся московской молодежи» того времени. Если в ее среде были, – и, по всей вероятности, преобладали, – личности в роде Степана Алябьева и Луки Голосова, не желавших учиться из опасения впасть в ересь, то, к счастью для дальнейшего развития страны, встречались и такие, которые «безпрестанно, со слезами» умоляли о том, чтобы им дали возможность продолжать в Киеве образование, начатое в Москве. У этих последних было вполне достаточное основание для того, чтобы слезно просить позволения ехать в Киев. Они не питали никакого уважения к своим благочестивым московским учителям, говоря: «враки де они вракаютъ, слушать у нихъ нечего и себƀ чести не дƀлаютъ, учатъ просто, сами не знаютъ, чему учатъ»[554]. Этих любознательных молодых людей тоже некоторым образом «тошнило» в матушке Москве, и они, подобно Воину Ордину-Нащокину, стремились вырваться из нее. К сожалению, их было пока еще крайне мало.
IV
В виду националистической реакции, возникавшей вследствие поворота к Западу и непрерывно возраставшей вместе с ростом западного влияния, можно думать, что, проповедуя свою «ксенеласію», Юрий Крижанич отчасти подчинился настроению, сильно распространенному в тогдашней Москве. Я потому говорю «отчасти», что Крижанич уже и до приезда своего в Московское государство обладал весьма порядочным запасом нелюбви к «немцам». В Москве, слыша с разных сторон раздававшиеся жалобы на «немецкое» засилье (как выразились бы теперь наши националисты), Юрий Сербенин мог еще более укрепиться в своем нерасположении к «немцам» и потому окончательно склониться к «гостогонству». Националистическая реакция нашла свое выражение между прочим и в расколе. Скажу больше. Раскол старообрядства был самым ярким ее выражением в московской жизни XVII века. «Ох, бедная Русь, – восклицал знаменитый расколоучитель, протопоп Аввакум, – чего-то тебе захотелось латинских обычаев и немецких поступок!» Другой расколоучитель, поп Лазарь, взывал к Алексею Михайловичу: «Царю благородный! како времени сего не испытуешь: имƀеши у себе мудрых философовъ, разсуждающихъ лица небесе и земли, и звƀздъ хвосты аршиномъ измƀряющихъ: сихъ Спасъ глаголетъ лицемеры быти, яко времени не изгадаютъ. Гοсударь! таковыхъ ли в чести имаши и различными брашны питавши... Ветхій законъ стƀнь благодати есть: егда въ законƀхъ отеческихъ неотступно пребываху, того ради вся благая отъ Бога пріимаху, а егда въ законƀхъ отеческихъ блудствоваху, того ради вся злая бываху имъ.Подобаетъ ти Царю заповƀдати благороднымъ чадомъ своимъ, да пребываютъ въ законƀхъ отеческихъ во вƀки неотступно». Третій защитник древнего благочестия, дьякон Федор, оплакивал конец старой Руси. «Иного отступленія, – говорил онъ, – уже не будетъ: здƀ бо бысть послƀдняя Русь»...[555]. Но и сам патриарх Никон, представлявшийся раскольникам опасным нововводителем, не избежал влияния националистической реакции. Алепский архидиакон Павел сообщает, что, когда московские живописцы стали усваивать приемы западных художников, московские вельможи начали покупать у них иконы новой манеры, Никон отобрал оные и издал указ, что кто впредь будет живописать их, тот подвергнется строжайшему наказанию. Такие иконы, собранные по повелению царя Алексея Михайловича, зарыты были въ землю, а пишущие в духе новой школы преданы анафемƀ[556]. Подобной энергии в деле борьбы с Западом могли бы позавидовать самые жестоковыйные расколоучители[557].
Настроение, выразившееся потом в расколе, почти окончательно сформировалось еще в то время, когда Никон был только новгородским митрополитом и не имел влияния на судьбу русской церкви. Уже тогда между верующими распространялись сборники, в которых говорилось об антихристе и вычислялось время его пришествия. В книге «О вере», напечатанной при патриархе Иосифе, предшественнике Никона, было сказано: «По тысящƀ лƀтъ отъ воплощенія Сына Божія Римъ отпаде отъ восточныя церкве; въ 595-е лƀто по тысящƀ жителіе Малой России къ римскому костелу приступили. Се второе отторженіе христіанъ отъ церкве. Оберегая сіе пишемъ: егда исполнится 1666 лƀтъ, да чтобы отъ прежнихъ винъ зло нƀкако и намъ не пострадати»[558]. Как известно, в 1666 году в Москве состоялся собор русского духовенства, одобривший никоновы новшества и принявший жестокие моры против нераскаянных раскольников (протопопа Аввакума, попа Лазаря, дьякона Федора). Этим как бы оправдывалось только-что приведенное предсказание, вследствие чего книга, заключавшая его в себе, должна была приобрести большой авторитет в глазах защитников старой веры. Еще раз: противниками новшеств были в XVII веке вовсе не одни раскольники. В феврале 1690 года, т.-е. когда власть фактически была уже в руках Петра, патриарх Иоаким, приглашенный к царскому столу на обед по случаю рождения царевича Алексея Петровича, потребовал и добился, чтобы за столом не было иноземцев. Перед своею смертью он составил завещание, в котором разразился целой филиппикой против проклятых еретиков-иноземцев. «Какая отъ нихъ православному воинству можетъ быть помощь? – наивно вопрошал святитель, – только гнƀвъ Божій наводятъ. Когда православные молятся, тогда еретики спятъ; христіане просятъ помощи у Богородицы и всƀхъ святыхъ, – еретики надъ всƀмъ этимъ смƀются; христіане постятся, – еретики никогда. Начальствуютъ волки надъ агнцами! Благодатію Божіею въ Русскомъ царствƀ людей благочестивыхъ, въ ратоборствƀ искусныхъ, очень много. Опять напоминаю, чтобъ иновƀрцамъ еретикамъ костеловъ римскихъ, кирокъ нƀмецкихъ, Татарамъ мечетей не давать строить нигдƀ, новыхъ латинскихъ и иностранныхъ обычаевъ и въ платьƀ перемƀнъ по иноземски не вводить»[559] и т.д. Но при всем том не подлежит сомнению, что ярче всего выразилась националистическая реакция против поворота к Западу именно в расколе.
Глава XII Движение общественной мысли под влиянием борьбы царя с боярством
1
Формальное происхождение раскола в высшей степени характерно для Московской Руси. Известно, что начало ему положено было исправлением религиозного обряда и некоторых богослужебных книг. Почин в деле этого исправления принадлежал патриарху Никону. Никон считал установившийся в Москве религиозный обряд несогласным со старым обрядом восточной церкви. Он ошибался. Московский обряд был старше того обряда, во имя которого его отвергал Никон и который господствовал в XVII веке у православных греков. Христиане сначала крестились одним пальцем; потом «единоперстие» заменено было «двоеперстием» на Востоке, откуда оно перешло на Русь. Но современем греки стали креститься, вместо двух, тремя пальцами, между тем как московские люди удержали «двоеперстие». По всему видно, что эти исторические факты остались неизвестными Никону. Оно и не удивительно, так как Никон не знал греческого языка и вообще был недостаточно образован для того, чтобы делать исторические справки такого рода. Но достойно замечания, что греческие патриархи, председательствовавшие на Московском духовном соборе 1667 г. и одобрившие предание анафеме тех, которые принимали старый русский обряд, были незнакомы с историей своей собственной церкви. Впрочем возможно, что им была известна эта история, но они постарались забыть о ней. Как говорит проф. Каптерев, они «слишком увлекались предвзятым, тенденциозным желанием осудить невежественных русских за их стремление освободиться в своей церковной жизни от опеки и подчинения современным грекам, увлекались желанием, путем осуждения и принижения всего периода русской самостоятельной независимой от греков церковной жизни, возвысить, как откровенно выражаются сами патриархи, «преизящный греческій родъ», возстановить в мнении русских «лƀпоту рода греческого», а вместе с этим увеличить и количество милостыни, посылаемой русским правительством восточным патриаршим кафедрам»[560]. Предание анафеме лиц, державшихся русского обряда, неизбежно должно было утвердить раскол там, где при более мягком отношении к предмету было бы
только разногласие по несущественному вопросу. А это делает весьма вероятным то мнение проф. Каптерева, что «наш раскол старообрядчества своим формальным происхождением обязан исключительно действиям на соборе двух восточных патриархов, а не русским иерархам, которые на соборе 1667 года в суждениях о старом русском обряде только пассивно подчинились воздействию двух вселенских патриархов и других греков, как людей более их авторитетных и сведущих в решении церковных вопросов»[561]. Конечно, при отсутствии «крутого владания» в московской церкви греческим иерархам не удалось бы принести так много вреда русской земле, а это «крутое владание» не грекам обязано было своим происхождением. Но как бы то ни было, вина греков, несомненно, очень велика. Главными виновниками формального раскола русской церкви проф. Каптерев считает, – кроме двух восточных патриархов – Паисия Александрийского и Макария Антиохийского, – Паисия Лигарида и афонского иверского архимандрита Дионисия[562]. В одной из предшествующих глав мне уже приходилось говорить о весьма сомнительной нравственности Паисия Лигарида. Теперь я вынужден прибавить, что весьма сомнительной нравственностью отличался между православными греками, к сожалению, не он один. Проф. Каптерев думает, что, признав в церковных делах авторитет греков, как людей, обладавших научными знаниями, москвичи в то же время составили себе довольно ясное представление об их нравственных недостатках. Он пишет: «Русские не могли не видеть, что греки ехали в Москву прежде всего и главным образом ради личной наживы на счет тароватого на подачки московского правительства и всех русских вообще. Русские видели, что греки, в видах наживы, пускали в ход все средства, не исключая даже самых сомнительных, что они готовы были на всякие послуги, лишь бы им хорошо за них платили»[563]. Сами восточные патриархи вели себя в Москве не вполне безукоризненно. Они стали торговать индульгенциями, продавая их по рублю за штуку, что составляет на нынешние деньги около 20 рублей. Цена, можно сказать, сходная, но москвичи роптали. Сохранилась челобитная неизвестного лица на имя государя, в которой говорится: «Палестинские патриархи приходили въ твое государство и онƀ отъ себя давали здƀ, в Московскомъ государствƀ, разрƀшальные грамоты в᾽прежъ содƀянныхъ грƀсƀхъ, і впредь кто согрƀшитъ – грƀха не имать, а имали всего за такіе грамоты по рублю: какіе в нихъ правды и истины искать? Нƀсть цƀлости въ нихъ, но острупƀли з᾽главы и до ногъ, – развƀ сотая часть въ нихъ обрящется струна неимущая»[564]. Действительно, – острупели! Но если наше духовенство все-таки признавало авторитет этих острупелых людей, то отсюда видно, каким безпомощным почувствовало себя в тогдашних условиях, – некогда преисполненное самодовольства, – официальное богословие Московского государства. Что же касается светских правителей,
то у них, несомненно, был свой расчет. Выше[565] я уже сказал, что в своем столкновении с Никоном Алексей Михайлович искал поддержки со стороны восточных патриархов. Я отметил также, что тишайший царь не обманулся в своих ожиданиях: готовые на всякие послуги греки энергично поддерживали его... разумеется, не безвозмездно.
II
Проф. Каптерев категорически утверждает, что решительное осуждение русского старого обряда собором 1667 г., руководимым двумя постояными патриархами, было «сплошным» недоразумением[566]. Это, повидимому, совершенно справедливо. Но нельзя согласиться с этим даровитым и смелым исследователем, когда он говорит, что у нашего раскола старообрядства «по самому его существу не имелось никакой серьезной почвы для дальнейшего сколько-нибудь прочного и продолжительного существования». Как же «не имелось», когда он существовал в течение целых столетий и до сих пор существует довольно «прочно»? Проф. Каптерев думает, что «истинной основой всей его (раскола. Г.П.) жизни было только недоразумение и непонимание дела обоими боровшимися сторонами»[567]. Что и говорить, – «на Москве» всегда было очень много всякого рода непонимания и недоразумений! Но почему же именно это недоразумение и это непонимание так глубоко всколыхнули общественную жизнь Московского государства? Наш автор отвечает: «Чем настойчивее реформа Никона указывала на несостоятельность, в некоторых отношениях, русской церковной старины, на необходимость перемен в ней, согласно с современным греческим – вселенским, тем настойчивее и крепче держались за старину противники реформы, тем решительнее между ними утверждалось убеждение, что всякое критическое отношение к русской старине... есть тяжкое преступление, гибельное и для церкви, и для государства». Но ведь вопрос состоит именно в том, почему московские люди так крепко ухватились за старину. Проф. Каптерев приводит знаменитые слова: «Держу до смерти, якоже пріяхъ; не прелагаю предƀлъ вƀчныхъ; до насъ положено, лежи такъ во вƀки вƀковъ». Он говорит по их поводу: «Вот основной принцип, высказанный протопопом Аввакумом и усвоенный всеми его последователями». Несколькими строками ниже он повторяет: «Притягательная и обаятельная для массы сила противников Никона в том между прочим и заключалась, что они являлись борцами и защитниками за родную, попираемую Никоном, святую старину, борцами за так-называемую теперь русскую самобытность, которой угрожало гибельное вторжение иностранных новшеств»[568]. Это опять ничего не об᾽ясняет. Зачем так понадобилась народной массе «русская самобытность» и почему старина сделалась в ее глазах «святою»?
В предыдущей главе мною указаны были те общие исторические условия, благодаря которым поворот Московской Руси к Западу вызвал в ее населении значительную националистическую реакцию. Теперь присмотримся к этим условиям несколько внимательнее. Первые расколоучители вышли из среды московского духовенства. Что побудило их восстать против никоновских новшеств? По словам Щапова, раскол возник из демократической оппозиции слишком строгому Никону, которого низшее духовенство называло вторым папою. Щапов считает ненависть к патриарху Никону основным принципом раскола в его первоначальном виде. «Духовный клерикальный и религиозный демократизм, – говорит он, – вот первая, ближайшая, первоначальная причина происхождения раскола именно от нашего духовенства»[569]. Это, как мы увидим ниже, нуждается в некоторых оговорках, но все-таки представляет собою несравненно более конкретное указание, нежели чисто-рационалистическая ссылка на недоразумение и неведение. Пойдем дальше. Почему трудящаяся масса так охотно откликнулась на раскольничью проповедь, почин которой принадлежал нисшему московскому духовенству? Чтобы ответить на этот вопрос, Щапов приводит длинную выдержку из «возмутительного письма», сочиненного бывшим подьячим, старообрядцем Докукиным. Оно относится, правда, уже к эпохе Петра, но это нисколько не умаляет его значения как человеческого документа, уясняющего психологию раскольничьего движения в народной массе. Вот некоторые строки из него: «Зрите, о правовƀрные христіянскіе роды, како мы... здƀсь живущіе на землƀ... свободной жизни лишаеми, гоними изъ дома въ домъ, изъ мƀста въ мƀсто, изъ града во градъ, оскорбляемы, озлобляемы, домовъ и торговъ, земледƀльства, такожде и рукодƀльства, и всƀхъ своихъ прежнихъ промысловъ... и всякаго во блачестіи живущихъ состоянія, и градскихъ и древле уставленныхъ законовъ лишились». Эти строки убедительно свидетельствуют, что склонность к расколу вызывалась в трудящейся массе ее тяжелым положением. Но это не все. Далее мы встречаем еще более ясные указания. «Древеса самыя нужныя въ дƀлахъ нашихъ повсюду заповƀданы быша, рыбныя ловли и торговые и завоцкіе промыслы отняты многіе и воздƀ бƀдами погружаемы, на правежƀхъ стоя отъ великихъ и несносныхъ податей... гладомъ истаеваемы и многіе отъ того умерщвляемы, домы и приходы запустƀли, святыя церкви обветшали, древодƀлій и каменосƀдцевъ отгнали...» Тут перед нами целый ряд весьма определенных жалоб. Каждую из них можно было бы пояснить ссылкою на соответствующее, стеснительное для народа, распоряжение Петра. В виду этого совершенно очевидно, что не только недоразумение и не только неведение лежало в основе раскольничьего движения в народе. Движение это, несомненно, опиралось на недовольство народа своим постоянно
ухудшавшимся положением[570]. Это неоспоримое обстоятельство и дало довольно многим ученым публицистам повод для идеализации раскола, сыгравшей большую роль в истории русских демократических идей 60-х и 70-х гг. XIX столетия.
III
Щапов говорит: «Люди старой веры, вместе с Докукиным, вопияли при Петре... против лишения свободной жизни, и многие оттого бежали в раскол... В старину все земские люди, и гости посадские и, крестьяне, пользовались полным правом житейской свободы, жили на всей своей воле... и вот когда появилось первое ограничение воли, прикрепление к месту, вместе с государственным тяглом; когда настало прикрепление крестьян к сельской земле, посадских к посадской, – земские люди постоянно избывали от тягла, стремились жить на льготе, на воле, нехотя быть въ тягле, чинились сильный государеву указу непослушны... самохотно селились в льготные, свободные торгово-промышленные слободы... А как во второй половине XVII в. и в царствование Петра, с развитием всеобщей, всенародной крепостности и повинности государству, и свободные торгово-промышленные слободы делались государевыми, казенными, и класс вольных гулящих людей уничтожался, то, естественно, это должно было вызвать реакцию со стороны всех этих вольных гулящих людей и свободных слобод»[571]. Преследуемые правительством, гулящие люди бежали в леса и в степи, заселяли окраины, основывая там новые слободы. Но эти новые слободы были уже раскольничьими слободами. Усиливаясь остоять свои старые вольности, трудящаяся масса встретилась с первыми расколоучителями из духовной среды, стремившимися к демократизму в церковном устройстве, и охотно предоставила им роль идеологов общенародного протеста против крепостнической практики московских централистов. Эти рассуждения Щапова составляли канву, по которой с большим или меньшим усердием и талантом вышивали все другие «идеализаторы раскола»[572]. В настоящее время легко заметить непрочность этой канвы. В передовых государствах Западной Европы «религиозный демократизм» выражался в определенных политических стремлениях и служил толчком для
деятельной работы мысли. Почти то же можно сказать о возникавших в северно-русских «народоправствах» религиозных движениях. Еще Костомаров обращал внимание своих читателей на то, что так-называемые стригольники затрагивали в своем религиозном протесте не букву, а сущность верований. Их религиозная мысль не стояла на одном месте. Как говорит тот же историк, они доходили вплоть до чистого деизма и отвергали предания не только церковные, но и апостольские[573]. Ересь жидовствующих тоже обнаружила значительное свободомыслие и показала сильное стремление вперед. Костомаров полагает, что некоторые ее сторонники доходили до материализма[574]. Вообще они отличались значительным для того времени образованием, интересуясь не одним только священным писанием. Недаром Иосиф Волоцкой обвинял их в том, что они прилежали «многымъ баснотвореніемъ»[575]. Г.Е.Голубинский находит, что ересь стригольников представляет весьма близкое сходство с нынешними нашими раскольниками-безпоповцами. Но если есть неоспоримое сходство, то есть и существенное различие; безпоповщина держалась и держится за букву едва ли меньше поповщины, между тем как стригольники, а после них жидовствующие очень мало дорожили ею. Притом псковские и новгородские еретики не чурались Запада, а, напротив, склонны были к сближению с ним. Оно и понятно: религиозные взгляды их возникли под очевидным и сильным его влиянием. Наконец, даже в Москве мы встречаем, – у М.С.Башкина и Феодосия Косого, – прилежную работу критической мысли, не имеющую ровно ничего общего с тупою приверженностью к старому обряду и букве. Для старообрядцев, – да, как мы видели выше, и для самого Никона, – вопрос о том, как писать иконы, имел первостепенное значение. А Феодосий Косой более чем за 100 лет до их появления утверждал, что иконы – те же идолы: «Очи имъ писаны, и уши, и ноздри, и уста, и руки, и ноги, и ничто же ими дƀйствуетъ, не могутъ двигнути. Он отвергал все христианское церковное устройство и считал Христа за Человека проста»[576]. Согласно учению этого замечательного человека, христианство состоит не в соблюдении обрядов, а в исполнении заповеди Иисуса о любви к ближним. Но что более всего поражает при сопоставлении его взглядов со взглядами старообрядцев, так это полное отсутствие у него национальной исключительности. Он говорил, что все люди суть одно у бога: «и татары, и немцы, и прочие языки»[577]. Почему же в Московской Руси XVII века религиозное возбуждение и народное недовольство выразились только в слепой привязанности к мертвой букве?
Когда защищавшее старый обряд московское духовенство кричало: «до насъ положено; лежи такъ во вƀки вƀковъ!»; когда оно умирало за «святую» старину, оно тем самым показывало, что в его среде «религиозный демократизм» не только прекрасно уживался с умственным застоем, но еще усиливал его собою. Откуда же взялась эта своеобразная черта у московского религиозного демократизма? Щапов и другие «идеализаторы раскола» мало занимались этим интересным вопросом. А когда они занимались им, то отвечали на него в духе рационалистов. Вот пример. Один из самых усердных «идеализаторов раскола», – вернее сказать, самый усердный между ними, – И.Юзов, писал: «К сожалению, для людей жаждущих духовной жизни был у нас один исход – раскол... Всякий крестьянин, ощущавший в себе... «душевный глад», не имел никакого другого исхода, как искать в расколе утоления мучившего его глада, – все остальные дороги были для него закрыты»[578]. В последнем счете это значит, что народ хватался за раскол по причине полного отсутствия у него других источников просвещения. А это очень похоже на то, приведенное мною выше мнение проф. Каптерева, что раскол коренился в недоразумении и неведении. В другом месте Юзов делает длинные выписки из одной челобитной, написанной от имени раскольников, присоединившихся к единоверию. Между этими выписками есть одна, имеющая для нас немалый интерес. Речь идет об анафеме, произнесенной против раскольников. «Осуждение это, – говорится в интересующем нас здесь отрывке челобитной, – произнесено одним архипастырством российской церкви вопреки ей самой, т.-е. вопреки народу, самому телу церкви и хранителю благочестия. А как архипастырство одно не составляет собою церкви в собственном ее смысле, то и осуждение это произнесено не только не апостольскою церковью, но даже и не российскою. А следовательно, оно и не действительно, потому что не церковное»[579]. Я не буду разбирать, насколько соответствует исторической истине представление авторов челобитной о том, по чьему почину прокляты защитники старого русского обряда. Приведенные выше соображения проф. Каптерева можно считать исчерпывающими этот предмет. Но достойно замечания, что в самом деле некоторые сторонники раскола если не всегда, то в эпоху составления челобитной[580] дорожили церковным демократизмом. В их глазах хранителем благочестия и телом церкви был народ. И нельзя не согласиться с ними, когда они, развивая дальше свой взгляд, пишут: «И кому в церкви всероссийской рассуждать о догматах, о вере; по апостольскому примеру надлежит рассуждать соборне, а в церкви всероссийской какие соборы? Синод под командой офицера занимается только внешними делами»[581].
<A1>Авторы челобитной пишут затем, что апостольская церковь «никогда не придавала и не придает обряду догматической неизменяемости и вселенской обязательной однообразности, но каждой частной церкви, по мере ее самостоятельности, предоставляла благоустроить свои чины и уставы, обычаи и обряды сообразно времени, месту и духу народа»[582]. Юзов не оговаривается, кому принадлежит курсив в этом отрывке. Я полагаю, что ему. Но кто бы ни подчеркнул слова: «сообразно времени, месту и духу народа», на них стоит остановиться. Почему двоеперстие, хождение посолонь, сугубая аллилуйя, именование спасителя Исусом и т.д. были в Москве сообразны «времени, месту и духу народа»? Об этом нет речи ни у авторов челобитной, ни у самого И.Юзова. Если бы кто-нибудь вплотную поставил перед ним этот вопрос, то он повторил бы, что «раскол был у нас единственным исходом для людей, жаждущих духовной жизни». И опять этот ответ совсем не был бы ответом. Есть раскол и раскол; есть ересь и ересь. В северно-русских народоправствах «еретики» анализировали, как мы знаем, дух религиозного учения; в Московском государстве они готовы были умирать за букву («за азъ»). Задача науки в том и заключается, чтобы указать те свойства общественного бытия, которыми обусловлены были эти существенные различия в общественном сознании.
IV
Прежде чем решать эту задачу, изучим внимательно психологию старообрядцев. Неоспоримо, что первые расколоучители возмущались деспотизмом Никона. «Ничто же тако расколъ творить въ церквахъ, яко же любоначалие во властƀхъ», – говорил еще протопоп Аввакум в своей челобитной Алексею Михайловичу. Но чем больше всего возмущался Аввакум в деятельности Никона? Его обрядовыми новшествами. «Мы же задумалися, сошедшися между собою, – рассказывает он о себе и о другом, не менее его знаменитом расколоучителе, казанском протопопе «Иоанне» Неронове: – видим, яко зима хощетъ быти; сердце озябло и ноги задрожали. Нероновъ приказалъ мне церковь, а самъ единъ скрылся въ Чудовъ, седмицу в палаткƀ молился, и тамъ ему отъ образа гласъ бысть»... Это страшное нравственное потрясение вызвано было ни чем иным, как следующим распоряжением Никона: «По преданию святыхъ Апостолъ и святыхъ отецъ не подобаетъ въ церкви метание творити на колƀну, но въ поясъ бы вамъ творити поклоны, еще и тремя персты бы крестились». Слышанный Нероновым въ Чудове гласе отъ образа возвещал: «Время приспƀ страданія, подобаетъ вамъ неослабно страдати». Люди, подобные Аввакуму и его друзьям, не боялись страданий. Они немедленно принялись действовать. «Мы съ Даніиломъ[583] написахомъ изъ книгъ выписки о сложеніи перстъ о и поклонƀхъ и подали Государю. Много писано
было»[584]. Это правда! Но много писано было о поклонех, о сложении перст и прочих обрядах, между тем как «духовный демократизм» хотя и проявлялся в сочинениях раскольничьих первоучителей, но проявлялся очень редко. У протопопа Аввакума была духовная дочь, девица Анна. Благохитрый бес однажды сделал так, что она, стоя в правиле, задремала и сонная повалилась на лавку. Спала она три дня, а на четвертый очнулась и, гораздо поплакав, рассказала своему духовному отцу следующее: «Егда де я въ правилƀ задремала и повалилась, приступили ко мнƀ два ангела и взяли меня, и вели меня тƀснымъ путемъ, и на лƀвой сторонƀ плачь и рыданіе, и гласы умиленны; потомъ-де меня привели во свƀтлое мƀсто – зƀло гораздо красно и показали-де многія красныя жилища и палаты; a всƀхъ-де краше палата неизрƀченною красотою сіяетъ паче всƀхъ и велика гораздо; ввели-де меня въ нее..., а подержавъ же меня паки изъ палаты поведи и сами говорятъ: «знаешь ли чья палата сія?» и азъ отвƀщала: «не знаю, пустите меня въ нее»; они же отвƀщали: «отца твоего протопопа Аввакума палата сія: слушай его и живи такъ, какъ онъ тебƀ показываетъ персты слагать и креститься и кланяться, Богу молясь, и во всемъ не противься ему, такъ и ты будешь съ нимъ здƀсь»[585]. Как видим, сами ангелы, придавая решающее значение сложению перстов и поклонам, совсем забывали о «клерикальном и религиозном демократизме». Это значит, что если раскол в среде духовенства имел своей точкой исхода «клерикальный и религиозный демократизм», то в своей программе действий он не нашел места почти ни для чего, кроме старых обрядов, ни с каким демократизмом ничего общего не имеющих. Кроме того, Щапов сильно преувеличил демократизм возставшего против Никона низшего духовенства. Иван (»Иоанн») Неронов, Аввакум, Даниил, Логин и весь, по своему весьма замечательный, кружок первых расколоучителей ничего не имел против того устройства, которое господствовало в московской церкви в период, непосредственно предшествовавший патриаршеству Никона, и которое тоже не отличалось демократизмом. Он восставал только против некоторых безпорядков в богослужении. До вступления Никона на патриарший престол входившие в этот кружок ревнители благочестия могли безпрепятственно ходатайствовать перед церковными властями об исправлении разных церковных нестроений и даже «извещать» о них государя. Крутой Никон так подтянул своих подчиненных, что скоро от этой свободы не осталось и следа. «Егда поставили патріархомъ, – говорит о нем Аввакум, – такъ друзей не сталъ и въ Крестовую пускать и сей ядъ отрыгнулъ»[586]. На основании этих слов легко определить химический состав «яда». Беда заключалась не только в том, что московскому патриарху принадлежала большая власть над церковью и что «народ» не принимал участия в церковном управлении, сколько в том, что большая власть над церковью досталась в руки крутого патриарха, не считавшего нужным совещаться со
своими «друзьями»[587]. Клерикальная оппозиция напоминает собою ту, которая давала себя чувствовать подчас в среде служилых людей, особенно между боярами. Служилые люди ничего не имели против устройства Московского государства, но время от времени они становились недовольными системой государственного управления, практиковавшейся тем или другим отдельным, – своенравным и «пальчивым», – государем. Правда, служилые люди, огорчавшиеся действиями государей-тиранов, в роде Ивана IV, были все-таки практичнее духовенства, возставшего против тирана-патриарха. Они добивались «записей», содержанием которых служила не обрядовая сторона сношений с «потусторонним» миром, а возможные государственные действия, имеющие теснейшее отношение к нашей юдоли плача: казни без суда, конфискации имуществ и т.д. Но, несмотря на эту, сравнительно большую практичность служилых людей, в их требованиях ни разу не обнаружилась сколько-нибудь зрелая политическая мысль. Не находим ее мы и в требованиях низшего духовенства.
V
Как сомнителен был демократизм первых расколоучителей, доказывает следующее рассуждение Аввакума: «Знаете ли, вернии, Никонъ пресквернƀйший, – отъ него бƀда та на церковь ту пришла. Какъ бы добрый царь, повƀсилъ бы его на высокое дерево, яко древле Артаксерксъ Амана, хотяща погубити Мардохся и родъ израилевъ искоренити. Миленькой царь Иванъ Васильевичъ скоро бы указъ сделалъ такой собаке. А то чему быть! Умъ отнялъ у милово, у нынƀшняго, какъ близь его былъ»[588]. Аввакум резко порицал обрушившиеся на раскольников гонения. «Чудо! – восклицал он, – какъ то въ познаніе не хотятъ прійти: огнемъ да кнутомъ да виселицею хотятъ вƀру утвердить! Которые то апостолы научили такъ? не знаю! Мой Христосъ не приказалъ нашимъ апостоламъ такъ учить, еже бы огнемъда кнутомъ да висƀлицею въ вƀру приводить»[589]. Это и правильно, и чрезвычайно талантливо выражено. Но «мой Христосъ» вряд ли одобрил бы «указы» Ивана Васильевича, а наш протопоп очень жалел, что Алексей Михайлович не следовал примеру этого «миленького царя». Он наивно писал тишайшему государю: «Перестань-ко ты насъ мучить того! Возми еретиковъ тƀхъ, погубившихъ душу твою, пережги ихъ скверныхъ собакъ, латынниковъ и жидовъ, а насъ распусти природныхъ своихъ. Право будетъ хорошо»[590]. Уж чего лучше! Конечно, «мой Христос» не велел расправляться огнем, да кнутом, да виселицею. Но благочестивый протопоп думал, должно быть, что нехорошо расправляться огнем да кнутом лишь со сторонниками
старого обряда, а с «латынниками и жидами» это позволительно и даже обязательно. Тут перед нами новая черта для характеристики «демократизма» первых расколоучителей. Когда Аввакум убедился, что царь Алексей не отвергнет совершенной Никоном церковной реформы, он стал отзываться о нем весьма непочтительно. «Два рога у звƀря, – писал он, – двƀ власти знаменуетъ: одинъ побƀдитель... Никон, а другой пособитель Алексƀй..., являясь добрымъ, бодый церковь рогами и уставы ее стирая» и т.д. Или: «накудесилъ много горюнъ въ жизни сей, яко козелъ скача по холмамъ,вƀтры гоня, облетая по аэру, яко пернатъ, ища стань святыхъ, како бы ихъ поглотити и во адъ съ собою свести». Разочаровавшись в Алексее, Аввакум начал уповать на его наследника. Он писал некогда любезному ему «Михайловичу»: «Сынъ твой послƀ тебя распустить же о Христƀ всƀхъ страждущихъ и вƀрныхъ... на шестомъ соборƀ бысть сіе, – Константинъ Брадатый проклялъ же мучителя отца своего еретика и всƀмъ вƀрнымъ ти страждущимъ по Христƀ жив отъ даровалъ». Константину Брадатому Аввакум охотно предоставил бы всю полноту той власти, какою пользовался «миленькой царь» Иван Васильевич. Недовольство Алексеем Михайловичем породило у Аввакума твердую уверенность в том, что грешного царя ждут адские муки: «За что ты здƀсь отщепился отъ Христа, и пречистую икону Богородичну со престола согналъ и прочія ереси любезнƀ держалъ, a правовƀрныхъ пекъ и огнемъ палилъ? Будетъ ти и самому жарко въ день лютъ отъ Господа; а печеные тƀ отъ вƀры живы будутъ тамъ»[591]. В свое время кн. А. Курбский тоже мог пугнуть царя только небесным судьею. Характерный факт. Между учениками Иосифа Волоцкого, который был самым последовательным идеологом безграничной власти московских государей... поскольку они соглашались не налагать руку на церковные имущества, одно из самых видных мест занимал уже упомянутый выше мимоходом митрополит Даниил. В своих многочисленных сочинениях он неуклонно проводил взгляды Иосифа. И вот этот-то, до крайности консервативный писатель пользовался величайшим уважением со стороны старообрядцев. Они ставили его литературные произведения на одну доску с творениями святых отцов. И, по-своему, они были правы. «Вековое тяготение старообрядцев к личности и сочинениям митрополита Даниила, – говорит В.Жмакин, – обусловливается не только симпатией их к тем или другим частным воззрениям и религиозным обрядовым особенностям, оправдания для которых находятся в его сочинениях, но однородностию и тесною связью, какая существовала и существует между расколом и вообще всем тем направлением, проводником и ратоборцем которого был в свое время митрополит Даниил»[592].
VI
Я сказал, что есть ересь и ересь, раскол и раскол. Это справедливо между прочим и в применении к расколу старообрядства. Иное дело «поповщина», а иное дело «безпоповщина». В своей борьбе с официальной церковью «безпоповщина» ушла гораздо дальше «поповщины». Во второй половине XVIII века в среде «безпоповцев» могла возникнуть такая крайняя секта, как секта бегунов. Хронологически эта секта далеко стоит за пределами настоящей главы. Но я все-таки буду при случае ссылаться на нее здесь, потому что она, именно благодаря своим крайним стремлениям, лучше, нежели все другие «безпоповские» секты, показывает, как страшно узок был умственный кругозор старообрядства. С другой стороны, старообрядство так мало подвигалось вперед, что его идеологи в течение последующих столетий продолжали держаться в сущности той же самой точки зрения, на которую они встали в XVII веке. Безпоповцы выставляли против Никона следующие обвинения: «1. К имени Исуса прибавил іоту, разумея под і божество, а под и – человечество... «2. Сделал (вместо зачал) стихоразделение Евангельское – ересь Павла Самосадского и Латынская. «3. Учил, что Спаситель крещен поливанием – ересь Лютеранская. «4. О зачатии человечестем учил подобно Манихеям, Еллином, Латинам и Оригену. «5. В песни Аллилуйя прибавил 3-ье алл. – ересь Латин. «6. В той же песни по описателю жития Ефроима, чуждого бога языческого приложил. «7. Ввел моление на прежде освященной литургии и в Троицын день на коленях – ересь Латинская и Срацинская. «8. Ввел изображение распятия Христова на двучастном кресте – ересь Лютеранская и Латинская». Число таких обвинений доходит до двадцати четырех. Было бы скучно и безполезно приводить остальные. Довольно сказать, что все они по внутренней природе своей похожи на только-что приведенные. И, подобно только-что приведенным, ни одно из остальных обвинений не имеет ни малейшего отношения ни к какому демократизму. Но источник, из которого я заимствую эти обвинения, возстает не только против Никона. В нем находится еще сто других пунктов, характеризующих состояние господствующей церкви после патриарха. В этой сотне обвинений против официального православия находится только одно такое, которое, будучи истолковано надлежащим образом, могло бы получить общественное значение. Оно гласит: «Гонять и умерщвляють непрімлющихъ нововведенiй». Дальше идут обвинения в таком роде: «В книге Жезлъ въ имени Иисусъ истолкована Троица и два естества.
«Брадобритие со введением клеветы на св. Димитрия и Георгия. «На черствых просфорахъ служат. «В трехугольнике пишутъ по-латинƀ Бог. «Не хранят постов, разрешая себе: духовные – рыбу, мирские – мясо. «Не кладут поклонов при пении: аллилуя» и т.д., и т.д. Мысль, выдвинувшая эти обвинения, дорожит буквой, а не духом. Это ясно. Но рядом с обвинениями, свидетельствующими об исключительной привязанности к букве, стоят обвинения, показывающие, что, – как и поповщина, – безпоповщина была одним из плодов националистической реакции, вызванной поворотом Московского государства к Западу. Вот некоторые из них: «С музыкою, плясанием и плесканием пьют и едят. «С волосами, выпудренными и намазанными салом, ходят в церковь и даже в алтарь. «Составляют календари. «Новый год празднуют января 1-го дня, сократив лета Господня на 8 лет (Латин). «Учатся Астрономии, во уверение правления звезд по книгам и обычаям поганским. «На комедиях мущины одеваются в женские, а женщины в мужские платья»[593]. При самой сильной склонности к идеализации раскола невозможно найти в этих обвинениях что-нибудь прогрессивное. Чем-то сходным с политической оппозицией представляется отказ некоторых: безпоповских сект молиться за царя. Неоспоримый факт этого отказа навел Щапова на следующее размышление о ходе общественного развития в Московском государстве XVII столетия: «Таким образом, изумительно, загадочно и многозначительно, какое «непостоянство большое», по выражению русских людей XVII века, совершилось в образе мыслей большей части массы народной, в Москве и по всем областям, после всенародного согласья но земском соборе 1613 года. Во второе десятилетие семнадцатого века избран был царь по согласию всей земли, а с последнего десятилетия XVII века стали возникать и сильно распространяться в массе народной противоположные согласья, – началось непризнание, отрицание царя... так кончилась древняя Россия»[594]. Здесь вывод историка безконечно шире тех исторических данных, которые можно было положить в его основу. «Безпоповские» согласия, отказывавшиеся молиться за главу русской верховной власти, «отрицали» не царизм, как учреждение, а только «неблагочестивых» царей: царь гонит правую веру; поэтому грешно молиться за него, называть его в молитвах «благочестивейшим». Исключительно
этим соображением руководствовалась даже такая крайняя секта, как бегуны, иначе называемые странниками. Но наличность у нея такою соображения отнюдь не убеждает нас в том, что в ее лице «кончилась древняя Россия». Странник Осип Семенов показывал на допросе: «Со времени отставшего от веры Патриарха Никона царство антихристово настало, и представитель этого царства есть ваш Господин Император... Если б вздумал признать власть государя, то обманул бы этим Бога»[595]. Это звучит до последней степени радикально. Но дальше Осип Семенов говорил: «В книге Хронограф я читал, что св. отцы велели платить дань Диоклитиану царю, если не будет стеснять их, иначе не признавать его власти; и я платит бы дань вашему государю, если бы он не запрещал нам исповедывать истинную веру»[596]. Другой странник, Дометиан Феофанов, на допросе 12 марта 1848 г. показал: «Книги Великороссийской церкви за святыя не принимаю; верую только тому писанию, которое печатано при благочестивых царях; верую во святую соборню и апостольскую церковь, утвержденную семью вселенскими соборами. Царя и власти считаю нужными – только потому, что ни одна земля без царя быть не может; но того, по повелению коего странников и христиан содержат в темницах, за Царя не почитаю, а за мучителя. Св. Писание свидетельствует, что в ком отступление от веры и помрачение ума, тот Антихрист, а от лет Никона все верующие его учению отступники от провославной веры»[597]. Феофанов убежден, что ни одна земля без царя жить не может. Это – политическая сторона ого взглядов. Но царь отступил от истинной веры; он стал антихристом. Поэтому он перестал быть царем. И вот политический консерватизм завещанный Московской русью, осложняется в голове Феофанова вызванным религиозными соображениями отрицательным отношением к царям данного места и времени. В результате получилось сочетание, весьма похожее на то, с которым мы познакомились из сочинений протопопа Аввакума. Но ни проповедь Аввакума, ни только-что приведенный мною взгляд странника Дометиана Феофанова не возвещает конца древней России.
VII
Сам основатель секты бегунов, – этой, как сказано, крайней секты, – Евфимий называет царя Михаила Φедоровича «въ благочестіи сіявшимъи законъ Христовъ добре хранившимъ». За такого царя он счел бы себя обязанным молиться.
Грешно было, по его мнению, молиться за Петра и его преемников. Им нельзя покоряться: это значило бы слушаться «самого Сатаны». Но нельзя покоряться им единственно вследствие их нечестия, а не по каким-нибудь политическим побуждениям[598]. Удивительно, как Щапов, приписывая крайним раскольничьим согласиям XVII века отрицание царя, позабыл о следующем отрывке, им же самим написанном, едва за несколько страниц до того, в той же самой работе: «И вот как легко в XVII веке демократизм массы раз᾽игрывался игрой в самозванцы-цари, так точно простой крестьянин Владимирской губернии, Муромского уезда, Сародубенской волости, Иван Тимофеич Суслов, явился религиозным самозванцем, антропоморфически назвал себя Господом-Христом. И с тех пор самозванцев-Христов явилось несколько»[599]. Самозванцы-цари являлись на Руси не потому, что русский народ «отрицал» царей, а, напротив, потому, что он, подобно Дометиану Феофанову, считал царскую власть необходимой во всякой земле. В таком взгляде нет ни малейшего признака демократизма. Совершенно так же нет намека на него и в факте существования на Руси самозванных Христов. Эти последние представляют собою лишь фантастическое дополнение к самозванным царям. И как те, так и другие самой возможностью своего появлении доказывают не окончание древней Руси, а ее живучесть. Впрочем, самозванцы-христы появлялись в согласиях, уже отличающихся от старообрядческих в точном смысле этого слова. Что староверы, – поповцы и безпоповны, – противились предержащим властям не только из-за буквы, это очевидно, кроме всего другого, из следующих соображений Евфимия: «Не явственнƀе-ли таковое Антихриста одержаніе являетъ быти в 1-ю опись народную, егда 1 императоръ описалъ всƀхъчеловƀкъ и раздƀлилъ ихъ на разные чины... имъ-же размеживъ землю, лƀса и воды, даде я въ на слƀдіе комуждо ихъ, откуду и дань потребовася отъ умершихъ... и паче посылати въ пустынныя мƀста оныхъ властей своихъ губительныхъ искати безмолвныхъ, работающихъ Господеви, коихъ прежде благочестивіи царі почитающе и принося къ нимъ потребная, благословеніе отъ нихъ пріимаху... онъ-же идƀ-же обрƀтая ихъ грабленникъ имъ сотворися... мучаще и смерти предайте»[600]. Евфимий был недоволен не только тем, что Петр разделил народ на разные чины. Его возмущало размежевание земли, леса и воды. Отвергая такое размежевание, Евфимий доходил даже до коммунистических выводов. «Глаголь: мое отъ дьявола, рече введеся, – писал он; – вся вамъ общая сотворилъ есть
Богъ». Установлением частной собственности (»имений своих») он об᾽яснял порчу нравственности: «Сего ради оттолƀ начата бывати обманы, неправыя мƀры, неистовые вƀсы, и во всякую вещь неудобные примƀсы; родишася божбы и клятвы, жаждательства именія, ненависть, зависть, вражда и драки и между особньи брани до свирƀпства, обиды до грабительствъ, все сіе онаго ради запрещенія и раздƀленія; кому оный императоръ надƀли много, кому мало, иному же ничего же давъ, токмо едино рукодƀліе имƀти повелƀ»[601]. Эти выводы и соображения Евфимия свидетельствуют о том, что он был очень богато одарен от природы[602]. Они свидетельствуют также о том, что великорусское племя по своим природным способностям нисколько не уступало другим и при благоприятных условиях могло бы предаваться такой же смелой работе мысли, какую мы видим на Западе Европы. Но общественные условия не оставляли в Московском государстве никакого простора развитию общественного сознания. Поэтому московские люди показывали себя крайне безпомощными всякий раз, когда обстоятельства вызывали их на обсуждение ими же самими созданного социально-политического строя. Гегель говорил, характеризуя правовые и нравственные понятия Китая, что требования нравственности представлялись китайцам не побуждениями собственной совести, а полученными извне приказаниями. Он об᾽яснял это тем, что личность не могла развиваться при свойственных китайской деспотии социально-политических условиях. Но личность совершенно в такой же мере лишена была возможности развиваться в Московской «вотчинной монархии», как и в деспотическом Китае. Нравственность московских людей изображается иностранными путешественниками, – к числу которых здесь можно отнести и весьма расположенного к русским славянина Крижанича, – в таком же виде, в каком Гегель изображал, тоже на основании отзывов иностранных путешественников, китайскую нравственность в своей философии истории. Известно, что в течение долгих периодов культурного развития нравственность и даже право получают свое освящение от религии. Так было, конечно, и в Московском государстве. Но если требования нравственности представлялись московским людям не побуждениями их собственной совести, а полученными извне приказаниями, то естественно что и религия, освящавшая эти требования, сводилась в их представлении к совокупности мертвых, – т.-е. не одухотворенных работой индивидуальной мысли, – догматов и обрядов. Вследствие этого, восставая против чего-либо во имя нравственности и религии, московские люди должны были опираться на мертвую догму и в лучшем случае, – т.-е. когда они в своем протесте доходили до последней крайности, – «умирать за азъ». Вот в чем разгадка того, что двоеперстие, хождение посолонь, сугубая аллилуйя и прочие старозаветные пустяки были в Московском государстве «сообразны времени, месту и духу народа»[603].
Националистическая реакция, вызванная поворотом Московского государства к Западу, должна была еще более укрепить у недовольных этим поворотом московских людей неосмысленную приверженность к разной обрядовой ветоши. В продолжение значительной части «петербургского периода» русское трудящееся население оставалось в таких же условиях, в каких находилось оно до реформы Петра. Разница была лишь в том, что эти условия стали еще гораздо более тяжелыми и еще менее благоприятными для развития личности. Поэтому психология народной массы оставалась, по своему существу, та же самая. Это обстоятельство и дает мне право ссылаться на взгляды старообрядцев XVIII и XIX столетий при изучении психологии старообрядцев XVII века. Оно же позволит мне ограничиваться в дальнейшем изложении лишь беглыми указаниями на старообрядство как на одно из выражений народного настроения.
VIII
<A1>Крайние представители безпоповства тоже находились под влиянием националистической реакции. В них еще продолжала жить старая Московская Русь. И даже такой, неоспоримо, очень даровитый человек, каким был Евфимий, восставая против общественного неравенства и против непосильной тяготы, взваленной Петром I на плечи русского народа, нагромождал на свои правильные и смелые выводы массу негодного хлама, лишавшего их практического значения. Петр I согрешил, по его мнению, не только тем, что поставил трудящуюся массу в крайне тяжелое положение. Непростительный грех первого императора состоит также в том, что он «умысли Елинские и Латинские и прочие языки законы установляти, яко се: брады брити, платіе нƀмецкое носити, власы растите и плƀсти косы, банты привязывати, петли на шеяхъ имƀти, пукли связывати и лавержъ (т.-е. косу. Г. П.) салом намазывати, и мукою главу припутривати, и табакъ носомъ пити и устами курите, и со псы изъ единыхъ сосудовъ ясти» и т.д. Вследствие того, что Петр до конца истребил благочестивые обычаи, исполнилось «реченное»: «и гладъ будетъ великъ»[604]. Эти последние слова воочию показывают нам, каким образом критическая мысль Евфимия, отправляясь от реальных фактов, немедленно попадала в безпросветную область националистической реакции. Он слышал, что при Петре положение народа было тяжело: «гладъ быль великъ». Нужно было найти причину этого явления. Она тотчас и подсказывалась богословскими приемами мышления, подкрепленными реакционным национализмом; глад был велик оттого, что стали брады брити, платье немецкое носити, табак устами курите, носом его пити и проч., и проч., и проч. Но, принимая такое об᾽яснение, Евфимий тем самым лишал себя возможности успешно бороться с тем общественным злом, наличность которого он совершенно правильно констатировал.
H.И.Костомаров определял когда-то раскол как своеобразный, хотя несовершенный и неправильный орган народного самообразования[605]. Это определение, пожалуй, можно принять, переставив его составные части. Я сказал бы: раскол явился хотя и своеобразным, но несовершенным и неправильным органом народного самообразования. Правда, такие термины, как «неправильный» и «несовершенный», могут подать повод к недоразумениям. Но здесь ясно, в каком смысле надо понимать их. Общественное сознание определяется общественным бытием. Поступательное движение общественного бытия вызывает движение вперед общественного сознания. И не только вызывает его, но и само вызывается им в своем дальнейшем ходе. Для прогресса общественного бытия в высшей степени важно, чтобы всякий данный «орган народного самообразования» был «совершенным» и «правильным». А всякий такой орган тем более правилен и совершенен, чем более он целесообразен, т.-е. чем лучше понимает народ, через его посредство, причинную связь явлений общественного бытия. Едва ли нужно пояснять, почему это так: для борьбы с общественным злом необходимо правильное понимание его причины. Но мы сейчас видели, что старообрядческая идеология не только не облегчала, а прямо затрудняла народу понимание истинных причин его тяжелого положения. Поэтому если раскол и был органом народного самообразования, то неправильность и несовершенство этого органа достигали такой степени, что он являлся в то же время органом народного застоя, а вовсе не прогресса, каким его считал Костомаров. Костомаров писал также: «Мы не согласимся с мнением, распространенным у нас издавна и сделавшимся, так сказать, ходячим: будто раскол есть старая Русь. Нет, раскол – явление новое, чуждое старой Руси». Эту мысль он пояснял тем соображением, что в расколе народная масса впервые проявила своеобразную деятельность. Однако, старообрядческим сектам предшествовали на Руси секты стригольников и жидовствующих. Секты эти были гораздо более правильными и совершенными органами народного умственного прогресса, нежели раскол старообрядства. Правда, они возникли хотя и в русской земле, но за пределами Московского государства. Есть также основание думать, что они были плодом мысли главным образом высших классов северо-западных русских республик. Но и в самой Москве ересь Феодосия Косого была по своему умственному содержанию несравненно ценнее даже безпоповского старообрядства. Беглому солдату XVIII века, Евфимию, далеко до беглаго холопа XVI столетия, Феодосия Косого. Чем более расширялись и упрочивались основы московской «»вотчинной монархии», тем менее благоприятными становились общественные условия для умственной деятельности народной массы. И когда значительная часть этой массы приняла довольно широкое и очень энергичное участие в борьбе за старую веру, она тотчас обнаружила всю ту поразительную
слабость общественного самосознания, которая обусловливалась социально-политическими отношениями Московского государства. Поэтому невозможно считать раскол, как это делает Костомаров, явлением, чуждым старой Руси; в нем лучше, выпуклее, ярче, нежели в чем-либо другом, выразила свою духовную природу именно старая Московская Русь.
IX
Щапов говорил чистую правду, когда утверждал, что давимые государством крестьяне и посадские люди всеми силами старались «избывать от тягла» и «жить на воле». Ни мало не грешил он против исторической истины и тогда, когда писал, что это стремление крестьян и посадских людей нередко побуждало их «чиниться государеву указу непослушными». Но где же могло быть осуществлено стремление к воле? На этот вопрос отвечает сам Щапов. Мы встречаем у него указание на тот курьезный факт, что в учительских «каталогах» первой половины XVIII века против имен бурсаков часто стояли слова: semper fugitiosus. Этими двумя словами можно превосходно характеризовать все протестующие элементы, выходившие из среды русского народа. Каждый из них был на свой лад semper fugitiosus. «Бежали и бегали по белу свету всяких чинов люди, но всех более податные крепостные и служилые, – продолжает наш автор. – И собирались эти беглые в разные компании, согласия, скопища»[606]. В высшей степени замечательно, что крайняя старообрядческая секта получила уже знакомое нам название странников или бегунов.
Я сокроюсь в лесах темных, Водворюся со зверями, Там я стану жить: Там приятный воздух чист, И услышу птичий свист. Нежны ветры тамо дышут И токи вод журчат[607].
Так воспевали темные леса те энергичные представители русской трудящейся массы, которые не могли ужиться в неволе. Они же сочиняли чувствительные обращения к «прекрасной пустыне».
С горя, со кручины, Я пойду же разгуляюсь, Во прекрасной во пустыне Моя матушка вторая, Ты прекрасная пустыня! Приими меня пустыня
Со премногими грехами, Со горючими слезами...[608].
В «пустыне» беглец мог себя чувствовать очень хорошо в виду отсутствия бояр, податей, повинностей, приказных, московских батогов и петербургских шпицрутенов. Правда, его ожидало там много материальных лишений. Сама матушка пустыня предупреждала беглеца:
У меня же во пустыне Нету сладкие-то пищи. У меня же во пустыне Нету пития медвина, и т.д.
Но это было с полгоря, тем более, что прекрасная пустыня изобиловала разными естественными угодьями. Горе заключалось в том, что, как замечала та же матушка:
У меня ли во пустыне Тебе не с кем слова молвить.
Говоря это, «пустыня» имела, собственно, в виду, что пришедшему в нее «молодому юноше» будет «не с кем разгуляться». Но, с исторической точки зрения, дело представляется гораздо более серьезным. В «пустыне» не с кем было не только разгуляться, но и обменяться мыслями, а это останавливало умственное развитие беглецов. Ведшие социально-политические идеи зарождались и развивались не в пустыне, а в больших культурных центрах. Возникавшие там общественные противоречия служили самыми энергичными двигателями умственного прогресса. Юзов писал: «Наши староверы ополчились на защиту старины не ради того, что она – старина, а потому, что она казалась им более соответствующей потребностям народа, нежели вновь вводимые порядки»[609]. Это, конечно, так. Но и кто же ополчается на защиту старого (или нового) единственно ради того, что оно старо (или ново)? Всегда и везде старое (или новое) дорого людям только потому, что они признают его более соответствующим их нуждам, нежели новое (или старое). Так было и в Московском государстве. Как выяснено в главе, посвященной националистической реакции, значительная часть населения этого государства еще до появления раскола восставала против новых условий, вызванных поворотом к Западу. Мы знаем также, что сам раскол явился одним из выражений националистической реакции. Мы знаем, наконец, что реакция эта явилась не без причины. Она вызвана была тем, что новые условия жизни, создаваемые поворотом к Западу, так или иначе нарушали более или менее существенные интересы разных классов народа. Но беда была в том, что интересы эти заставляли оппозиционную мысль Московского государства смотреть не вперед, а назад.
Она смотрела назад в лице бояр, недовольных безграничным ростом власти московских государей и появлением на Руси служилых иноземцев; она смотрела назад в лице нисшего духовенства, возмущавшегося деспотизмом Никона; она смотрела назад в лице торговых людей, теснимых конкурренцией иностранных купцов; наконец, она стала смотреть назад в лице трудящейся массы в собственном смысле этих слов[610]. Постоянное обращение оппозиционной мысли назад, а не вперед обусловливалось неразвитостью общественных отношений, отнимавшей у представителей оппозиции всякую возможность наметить для своей страны путь поступательного, – а не попятного, – движения.
X
Но неразвитость общественных отношений имела еще то следствие, что оппозиционные направления в общественной мысли Московского государства оставались безплодными для дальнейшего идейного развития страны. «Идеализаторы раскола» рассуждали так: «староверы, критически относясь к новому, не могли не прилагать того же критического метода и к своим старым воззрениям – отсюда возможность дальнейшего развития»[611]. Такое рассуждение могло казаться убедительным лишь для тех исследователей, которые придерживались идеалистического взгляда на историю. Если люди никогда не защищают старого (иди нового) только потому, что оно старо (или ново), то они точно так же никогда не берутся за критику, – старого или нового, это в данном случае все равно, – только потому, что она критика. И если трудящееся население Московского государства критически относилось к новому, то из этого еще вовсе не следует, что оно должно было, войдя во вкус, критически отнестись и к старому. «Возможность дальнейшего развития» в умственной области всегда есть у людей. Однако она переходит в действительность только тогда, когда являются необходимые для этого общественные условия. А этих условий было все меньше по мере того, как складывался свойственный Московскому государству социально-политический порядок. Поэтому религиозная оппозиция, еще в XVI столетии выдвинувшая Феодосия Косого, могла в следующем веке выдвинуть только протопопа Аввакума и других ему подобных ревнителей «древнего благочестия». В передовых государствах Запада недовольные элемеаты сосредоточивались в городах; в Московском государстве они спасались в прекрасную пустыню. Тут перед нами секрет того, что в Московском государстве старое оказалось как в области общественных отношений, так и в области идей несравненно более живучим, нежели в передовых государствах Запада[612].
Сосредоточиваясь в культурных центрах, недовольные элементы населения передовых государств Запада не имели другого средства улучшить свою судьбу, кроме более или менее полной переделки данного политического строя. Толкая их на борьбу с ним, об᾽ективная сила общественного развития тем самым заставляла их мысль критиковать этот строй. И чем более обострялась общественная борьба, тем глубже проникала в основу старого порядка критическая мысль недовольных элементов. В Московском государстве было не так. Чем невыносимее становилось положение тяглой массы, тем сильнее подвергались наиболее энергичные элементы ее искушению бежать в «прекрасную пустыню». Собирались они там в казацкие круги или заводили раскольничьи скиты, – это зависело от обстоятельств. Но во всяком случае, устремляясь на окраины, они не имели повода задумываться о средствах улучшения давившего их общественного порядка. Им достаточно было убедиться в том, что он их давит. Если давит, то надо «разбредаться розно», – вот крайний вывод, к которому приходила народная мысль при данных исторических и географических условиях. Он не заключал в себе ровно ничего прогрессивного. Раз являлось у тяглых людей желание «разбрестись розно», они, разумеется, весьма охотно слушали тех, которые доказывали им, что на старом месте ничего хорошего ждать нельзя. Временами это доказывали удалые добрые молодцы, приглашавшие измученных тяглом государственных сирот погулять по широкому-степному или речному раздолью в шайках голутвенных казаков. А иногда покидать насиженные моста настоятельно советовали «старцы», звавшие православных на борьбу за «древлее благочестие». У «старцев» не могло быть в запасе довода, более убедительного, чем тот, что антихрист уже воцарился и ловит в свои сети православных христиан. Если он воцарился, то «разбрестись розно» не только нужно ради своих материальных интересов, но необходимо для спасения души. Таковы были, кроме всех указанных выше, те условия общественного бытия, которые сделали народное сознание восприимчивым к проповеди расколоучителей, впервые вышедших из среды нисшего духовенства. И.Н.Харламов писал еще в 80-х годах: «Странник поражается образом антихриста и поражает им массу. Указывая на специальное зло и об᾽ясняя его как дело сатаны-антихриста, он путает массовую мысль, из реальной сферы выталкивает ее в сферу фантазии, от попыток массы «скопом» отбыть от житейской тяги он уводит народную мысль в другую область – личной нравственности, затеняет общество, мысль об обществе, выпирая на первый план личность»[613]. Mutatis mutandis, – это можно сказать, за немногими исключениями, о всех христианских сектах: чаще всего их пропаганда выталкивает человеческую мысль из реальной сферы в фантастическую и тем самым замедляет ее развитие. Но больше других должна замедлять это развитие пропаганда того учения, которое рекомендует
своим последователям «умирать за азъ» и удаляться в «пустыню». Чем больше успеха имеет такая пропаганда, тем больше служит она сохранению старого порядка на старом месте[614]. Поселившись в «пустыне», невозможно было довольствоваться приятным чистым воздухом и птичьим свистом. Нужно было жить. В интересах борьбы за существование беглецы соединялись вместе, постепенно образуя довольно большие поселки. На эти поселки государство в течение некоторого времени не было в состоянии наложить свою тяжелую руку. Но взаимные отношения их жителей складывались в конце-концов по тому же типу, который выработался благодаря господствовавшему на старых местах способу производства. Разница заключалась лишь в том, что естественные богатства «пустыни» и отсутствие государственного гнета помогали переселенцам достигать «на новых местах» гораздо более высокой степени благосостояния. Это, разумеется, было очень хорошо. Но при тех условиях, которые существовали в западных странах, – включая сюда и Западную Русь, – более высокая степень благосостояния влекла за собою более быстрое развитие соответствующих данному способу производства общественных противоречий, в свою очередь ускорявших движение общественной мысли. А в прекрасной матушке-пустыне и это было не так. Правда, между поселенцами возникало неравенство имуществ, появлялись бедняки и богачи. Предприниматели-староверы наживали свои, порой очень большие, капиталы едва ли не столько же путем эксплуатации своих бедных единомышленников, сколько посредством торговых и промышленных сношений с «внешними» (иначе: никонианцами)[615]. Однако бедняки охотно шли за ними, видя в них благочестивых
«христолюбцев». Таким образом, и с этой стороны раскол был до последней степени «несовершенным» органом умственного прогресса: он задерживал его вместо того, чтобы способствовать ему. Общественное бытие не оставляло никакой возможности для плодотворного развития тех элементов прогрессивного мышления, которые возникали иногда, – хотя и весьма редко, – в крайних сектах безпоповщины. Коммунистические взгляды основателя секты странников остались в состоянии зародыша. В сущности, они так неопределенны, что даже самые усердные «идеализаторы раскола» не решались признать их коммунистическими в полном смысле слова. Юзов полагал, что в учении Евфимия коммунизм распространялся только на недвижимую собственность[616]. Если это в самом деле так, – что весьма вероятно, – то Евфимий лишь давал религиозную санкцию тому, что фактически существовало в «пустыне», где земля, лес и прочие угодья не составляли ничьей собственности. Но как бы там ни было, а странники вынуждены были считаться с действительными экономическими отношениями. Между ними тоже было много торговцев и промышленников, уже совсем несклонных проклинать глагол: «мое, твое». Эти торговцы и промышленники образовали в секте особый слой «мирских», или «жилых», бегунов. Для них уход в пустыню был, по выражению Щапова, одною только формальностью. Их истинная обязанность заключалась в пристанодержательстве, т.-е. в устройстве тайных приютов для настоящих бегунов. Этим последним невозможно было обойтись без таких тайных приютов, и они вынуждены были пойти на сделку со своими богатыми единомышленниками. Но эта неизбежная сделка была весьма существенной уступкой духу «антихриста». Необходимо заметить, кроме того, что по крайней мере в XIX в. секта странников сильно распространилась в промышленных великорусских губерниях, т.-е. там, где сильнее, нежели в других местностях русской земли, сказывалась сила капитала и где, несмотря на обилие лесов, «прекрасная пустыня» быстро утрачивала свою старую природу.
XI
Однако перестанем заходить вперед. Обратимся снова к Московской Руси. Щапов утверждал, что в расколе воплотился дух Степана Разина[617]. Но это не точно. Степан Разин, насколько можно говорить об его образе мыслей, вовсе не придавал значения вопросам обрядности, так страстно волновавшим Аввакума, Ивана Неронова, Никиту Пустосвята и других ревнителей старой веры. Когда он овладел Астраханью, ее жители, следуя его примеру, стали есть в постные
дни молоко и мясо и били тех, которые возмущались этим[618]. Когда в Черкасске сгорели церкви, Разин отказался пожертвовать что-нибудь на их возобновление. «На что церкви? К чему попы? – спрашивал он. – Венчать, что ли? Да не все ли равно: станьте в паре подле дерева да пропляшите вокруг него – вот и повенчались!» Костомаров говорит по этому поводу, что Разин сделался «врагом и самой веры, ибо вера не покровительствует мятежам и убийствам»[619]. Очень сомнительно, чтобы знаменитый вождь «голутвенных» казаков был когда-нибудь, по тем и по другим побуждениям, сознательным врагом религии. Если он в самом деле отрицал надобность в попах и церквах, советуя ограничиваться при заключении браков пляской вокруг «ракитова куста», то в этом следует видеть не столько «вражду к вере», сколько проявление той «озорной» удали, которая не останавливается даже перед тем, что сам удалец продолжает чтить в глубине своей души. Но при всем том совершенно неоспоримо, что добрый молодец, способный на подобное удальство, не мог увлечься расколом. Как мало интересовались Разин и его ближайшие сторонники вопросами, страстно волновавшими тогда московских начетчиков, видно из важной тактической ошибки, которой они, конечно, не сделали бы, если бы были лучше осведомлены о положении дел в Московском государстве: они пытались привлечь на свою сторону патриарха Никона. Хотя он, как и надо было ожидать, «на ту воровскую прелесть не подался», однако они все-таки распустили слух, что он плывет с ними на одном из стругов. Никон незадолго до того потерпел жестокое поражение в борьбе со светской властью и, сделавшись жертвой этой последней, показался «воровским» казакам подходящим орудием агитации в народе. Но они упустили из виду, что оппозиционные элементы трудящейся массы гораздо более склонны были идти против Никона, нежели за него. Проф. Н.Н.Фирсов давно уже указал на религиозный индифферентизм Разина как на источник этой крупной ошибки[620]. Беззаботность «воровских» казаков насчет спорных вопросов богослужебного обряда, может быть, еще лучше доказывается тем, что, выдавая себя на Волге за сторонников Никона, они обещали соловецким старцам свою поддержку в борьбе против никоновских новшеств. Они говорили им: «Постойте, братие, за истинную веру, не креститесь тремя перстами, это антихристова печать!» Уже современники понимали, что в таких речах «работничков Стеньки Разина» не было искренности. И в самом деле, будучи с участием приняты в Соловецком моностыре, работнички «отстранили иноков и беглецов от дел, избрали начальниками свою братию, Фаддейку Кожевника да Ивашку Сарафанова, и не только учили не повиноваться церкви, но и не считать царя государем[621]. Сто лет спустя Пугачев и пугачевцы обнаружили в своей агитационной деятельности несравненно большее уменье считаться с расколом, как с одним из видов выражения народного недовольства.
Трудящаяся масса шла за «помощничками» Ст. Разина, повинуясь «бунташному» настроению. В Московском государстве сельское население было, – как оно бывает везде и всегда, – более пассивно, нежели городское. Поэтому в городах «бунташное» настроение проявило себя уже в 1648–1650 и 1662 гг., а в деревнях только в 1670–1671 гг.[622]. В деревнях оно было еще более безнадежно, нежели в городах. Тогда не было на-лицо таких условий, которыми создавалась об᾽ективная возможность водворения нового общественного порядка и тем самым обезпечивалась бы победа народного движения, направлявшегося против старых социально-политических отношений. Выше я уже отметил, что «воровскому» казачеству приходилось считаться с монархическими убеждениями шедшей за ними тяглой массы. К приведенным там примерам прибавлю, что тот самый Разин, который не боялся насмехаться над духовенством и над церковными таинствами, нашел нужным, в бытность свою в Астрахани, сделать митрополиту визит в день именин царевича Феодора. Народная масса, видевшая в Разине смирителя всех ее лиходеев и на всем пространстве Московского государства готовая встречать своего «батюшку» с хлебом и солью, надеялась на него много больше, нежели на самое себя. Вот почему она поднималась там, где появлялись казаки и покорно подставляла шею под старое ярмо там, где казаки вынуждены были предоставить ее собственным ее силам[623]. Да и само казачество, ставшее во главе недовольного народа, было противодействием старого новому, а не нового старому. Сообразно с этим царское войско, в котором уже были тогда полки, обученные по-европейски, показало себя более искусным в ратном деле, чем казаки, посвящавшие однако тому же делу всю свою жизнь. Но, несмотря на все это, бунт Разина представляет собою общественное явление, несравненно более богатое жизненной энергией, чем раскол старообрядства. Участники этого бунта отстаивали земной, – хотя, конечно, отживший, – идеал, тогда как раскол стремился к «Иерусалиму небесному». Психология русских народных движений еще недостаточно изучена. Но едва ли мы ошибемся, предположив, что склонность народной массы к расколу была обратно пропорциональна ее вере в возможность собственными силами победить царящее зло и что, таким образом, раскол с особенным успехом распространялся после выпадавших на долю народа крупных поражений. По всей вероятности, тут совершался тот же социально-психологический процесс, который мы до сих пор можем наблюдать в нашей интеллигенции, с наибольшим усердием предающейся «религиозным исканиям» именно в мрачные эпохи торжества реакции и упадка общественной энергии.
Примечания <BKB bk=»История русской общественной мысли»>* Текст приводится по изданию: </BKB>
[1] «Один из величайших умственных успехов нашего времени в том состоит, что мы, наконец, поняли, что у России была своя история, несколько не похожая на историю ни одного европейского государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основании ее же самой, а не на основании историй, ничего не имеющих с нею общего, европейских народов». Так писал Белинский в статье «Взгляд на русскую литературу 1846 года». И с ним, разумеется, вполне согласились бы в этом и Киреевский, и Погодин.
[2] «Изучая культуру любого западно-европейского государства, мы должны были бы от экономического строя перейти сперва к социальной структуре, а затем уже к государственной организации, – говорит г. П.Милюков, – относительно России удобнее будет принять обратный порядок, т.е. с развитием государственности познакомиться раньше, чем с развитием социального строя». Это потому, что «у нас государство имело огромное влияние на общественную организацию, тогда как на Западе общественная организация обусловила государственный строй». «Очерки по истории русской культуры». СПБ. 1896, стр. 113–114.
[3] «Боярская Дума древней Руси», издание четвертое, стр. 7.
[4] Легко заметить, что этот взгляд на ход общественного развития Запада прямо противоположен взгляду П.Н.Милюкова.
[5] «Боярская Дума», стр. 9.
[6] Названное сочинение, стр. 13–14.
[7] «Essais», dixiиme йdition, pp. 73–74. Можно подумать, что Гизо возражает П.Н.Милюкову.
[8] Подробнее об этом см. в моей книге «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», изд. четвертое, стр. 13–26, в предисловии ко второму изданию моего перевода «Манифеста коммунистической партии» и в статье «М.П.Погодин и борьба классов», «Современный Мир», апрель и май 1911.
[9] Названн. соч., стр. 7–8.
[10] Там же, стр. 8.
[11] Там же, стр. 8.
[12] Там же, стр. 11.
[13] Паскуале Виллари высказал несколько очень остроумных догадок насчет экономических причин, обусловивших собою разницу в ходе политического развития некоторых больших городов Италии (См. его книгу Nicolo Machiavelli ei suoi tempi. Firenze, 1887, introduzione). Было бы большим преувеличением утверждать, что его догадки решают вопрос; но они определенно указывают, где надо искать его решения, а этого здесь для нас вполне достаточно.
[14] Там же, стр. 8.
[15] «История России с древнейших времен», изд. тов. «Общ. Польза», кн. I, стр. 269, примечание.
[16] «Histoire de la civilisation franзaise», tome premier, sixiиme йdition, p. 70.
[17] Надо заметить, что положение крестьян в Галлии в эпоху упадка Римской империи было очень тяжелое, и уже в 285 г. произошло страшное восстание их, известное под именем la bagaude. Г.П.
[18] Там же, стр. 76–77.
[19] Там же, стр. 77.
[20] К их числу у нас принадлежит М.Ф.Владимирский-Буданов (см. его «Очерки по истории литовско-русского права», I, «Поместья Литовского государства». Киев, 1889, стр. 2–3.
[21] Названное соч., т. I, стр. 268, примечание.
[22] Надо помнить и то, что летописный рассказ о призвании варягов дошел до нас в том виде, какой был ему придан гораздо позже того времени, о котором он сообщает, а именно – в XI и в начале – XII в. Тогда отношения уже изменились, «в XI в. варяги продолжали приходить на Русь наемниками, – говорит В. Ключевский, – но уже не превращались здесь в завоевателей, и насильственный захват власти, перестав повторяться, казался маловероятным» (Курс русской истории, изд. третье, т. I, стр. 169). Кроме того, русским книжникам XI в. приятнее было изображать пришествие варягов как следствие добровольного призвания их туземцами. Это совершенно естественно. Проф. Ключевский называет рассказ о призвании князей не народным преданием, а «схематической притчей о происхождении государства, приспособленной к пониманию детей школьного возраста» (Там же, стр. 170). С.Ф.Платонов делает интересное указание на то, что английский летописец Видукинд повествует о таком же точно призвании бриттами англосаксов, причем и свою землю бритты хвалили теми же словами, как новгородцы свою terram latam et spatiosam et omnium rerum copia refertam (Лекции по русской истории, изд. 6-е, стр. 68).
[23] Указанное издание, кн. I, стр. 29–30.
[24] «История России», том тринадцатый, глава первая, книга третья, стр. 664.
[25] Там же, та же страница.
[26] «Histoire de la civilisation au moyen аge et dans temps modernes» par Seignobos, Parise, 1887, p. 12–13. Ср. также Alfred Rambaud, «Histoire de la civilisation francaise», tome premier, p. 126.
[27] M.M.Ковалевский. Развитие народного хозяйства в Западной Европе, СПБ, 1899, стр. 71.
[28] I.М.Кулишер. Лекции по истории экономического быта Западной Европы, СПБ. 1912 г., стр. 126.
[29] «Из Бельска я отправился в Брест (Briesti), крепость с деревянным городом». «Каменец, город с каменной башней в деревянном замке» и т.д. (Герберштейн. Записки о Московии, СПБ, 1866, стр. 212–225). Мысль Соловьева об историческом значении камня и дерева приурочена к впечатлениям воображаемого путешественника. Интересно противопоставить им впечатления, вынесенные действительным путешественником из гор. Златоyстa: «Над городом нависли гранитные скалы, камень сам валится на голову, а город весь бревенчатый. Дома-избы, так и кажется, сорвались с картины Рериха «Древняя Русь». Улицы не мощены» и проч. (Г.Петров. По золотому дну. «Русское Слово» от 14/III 1913 г.). Тут вполне очевидно, что дело не в камне.
[30] Игорь Грабарь, История русского искусства, выпуск I, стр. 146.
[31] История России и т.д., кн. I. стр. 10.
[32] Я потому говорю «общественных явлений», что в своей лаборатории каждый естествоиспытатель поневоле делается материалистом. Чтобы найти примеры идеалистического об᾽яснения явлений природы, нужно было бы вернуться к натур-философии Шеллинга.
[33] «Das Kapital», t. I. dritte Auflage, ss. 521, 525.
[34] Там же, кн. I, стр. 10.
[35] Там же.
[36] Там жe, стр. 4.
[37] Там же, стр. 1034.
[38] Философия. – Политическая экономия. – Социализм. – Анти-Дюринг. – Перевод с немецкого, 4-е издание, стр. 137.
[39] «Курс истории русской литературы», часть I, цинга вторая, С.-Петербург, 1911 г., стр. 68–69.
[40] Летопись по Ипатскому списку, СПБ., 1871, стр. 37.
[41] К слову сказать, современная этнология совсем не знает «охотничье-торговых государств. Охотничьему быту соответствует общественная организация, основанная на кровном родстве. Теперь в этом вряд ли можно усомниться, особенно имея в виду превосходные работы северо-американской этнологической школы, возникшей под влиянием знаменитого Моргана.
[42] Там же, стр. 88–89. Тут не мешает еще заметить, что охотничьи народы не имеют обыкновения отсиживаться oт неприятелей в укрепленных городах.
[43] «Вятичи, забивавшиеся в глухие леса менаду Десной и верхней Окой, платили хазарам дань «от рала», с сохи» (Ключевский. Курс русской истории, ч. I, стр. 67). Это опять явление, неслыханное в охотничьем быту.
[44] Летопись по Ипатскому списку, стр. 183.
[45] Там же, стр. 154.
[46] Народец, принадлежащий к тюркскому племени и еще незадолго до указанного события остававшийся кочевым.
[47] Там же, стр. 155.
[48] Киевская Русь, т. I. СПБ., 1911, стр. 326–327.
[49] Грушевский. Киевская Русь, т. I, стр. 327. В другом месте того же тома автор замечает: «Источники, знавшие славян в нормальных условиях, на насиженных местах, указывают на широко развитую у них земледельческую культуру, наложившую сильный отпечаток на весь славянский быт» (стр. 306–307). Источники эти относятся к IX, X и XI вв. Ср. «Очерк истории украинского народа» того же автора, второе издание, стр. 31–32.
[50] Курс, ч. II, стр. 68.
[51] Курс, ч. I, СПБ., 1906, стр. 105
[52] Там же, стр. 29.
[53] Курс, ч. I, стр. 591.
[54] Там же, стр. 107.
[55] Там же, стр. 109.
[56] Там же, стр. 110.
[57] Там же, та же страница.
[58] Там же, стр. 152.
[59] Подробнее см. об этом в моих статьях об искусстве, напечатанных в сборниках: «За двадцать дет» и «Критика наших критиков».
[60] Очерки первобытной экономической культуры. Изд. 2-е, СПБ., 1899, стр. 39.
[61] Там же, стр. 113.
[62] Там же, стр. 40.
[63] Проф. Грушевский. Киевская Русь, т. I, стр. 339.
[64] Человек, очень сведущий в военном искусстве своего времени, капитан Маржерэ, – которого у нас почему-то называют Маржеретом, – говорит: «Сотня татар всегда разгонит двести россиян» (»Состояние Российской державы и великого княжества московского», СПБ. 1830, стр. 55). Как видно из его дальнейшего изложения, Маржерэ имеет в виду русскую конницу. Как же об᾽яснить это превосходство татарской конницы над московской? Неужели тем, что в конце XVI века Крым стоял не более высокой ступени экономического развития, нежели Московская Русь? Не думаю, чтобы кто-нибудь решился утверждать это.
[65] Притом, вооружение ополченцев значительно уступает вооружению дружинников: «обыкновенные курганы содержат в себе копья, ножи, стрелы и топоры; таково, вероятно, вооружение простого воина, не дружинника» (проф. Грушевский, там же, стр. 339).
[66] В VIII в. Русь владела устьем Днепра, а потом нижнее течение этой реки било надолго утрачено ею.
[67] Проф. М.Грушевский, там же, стр. 287. Ср. также «Курс русской истории» проф. В.Ключевского, ч. I, стр. 334 и след.
[68] В.Ключевский, там же, стр. 336–337.
[69] «Тяжелые условия, упадок торговли и земледелия под влиянием тюркских опустошений вели к уменьшению свободного крестьянства, мелкого свободного промысла и к увеличению числа безземельных батраков несвободных. Разоренные крестьянские хозяйства увеличивали собою имения бояр, а их хозяева попадали в безсрочную службу закупничества с тем, чтобы оттуда при первом случае быть переведенными в категорию холопей. Условия кредита были очень тяжелы; 15 % считалось очень легким, «христианским» процентом, а неоплатный должник попадал в котором куны или в неволю» (Грушевский, там же, стр. 121).
[70] «Ростовщический капитал в такой форме, когда он фактически присваивает весь прибавочный продукт непосредственного производителя, не изменяя способа производства... Когда, следовательно, капитал не подчиняет себе труд непосредственно и потому не противополагается ему в виде промышленного капитала, такой ростовщический капитал приводит этот способ производства в бедственное состояние, ослабляет производительные силы вместо того, чтобы развивать их, и увековечивает вместе с тем такое плачевное состояние, в котором общественные производительные силы не развиваются на счет самого рабочего, как в капиталистическом производстве» (К. Маркс. Капитал, т. III, стр. 490–491).
[71] Курс русск. истории, ч. 1, стр. 348–349. «С половины XII в. стало заметно, с конца еще заметнее обеднение Руси» (»Боярская Дума древней Руси», стр. 96). Надо добавить, впрочем, что совсем не убедительна и даже странна ссылка проф. Ключевского на возрастающую легковесность гривны кун, как на одно из доказательств этого обеднения. На Западе денежные единицы тоже становились все легковеснее. «In der Geschichte aller modernen Vцlker derselbe Geldname verblib einem sich stets vermindernden Metallgehalt». K. Marx. Zur Kritik der politischer Oekonomie. Berlin, 1859, 1, 89.
[72] Развитие в них и в окружающих их местностях товарного производства вызывало, как это мы с особенной ясностью видим в Италии, – падение несвободного земледельческого труда и замен его трудом свободных арендаторов. Стало быть, несвободный сельскохозяйственный труд исчезает в передовых итальянских республиках в то самое время, когда он упрочивается и распространяется в Киевской Руси.
[73] Проф. Грушевский. Очерки истории украинского народа, стр. 111–112.
[74] Конституции итальянских городов отличаются очень большою определенностью и даже излишней сложностью, которая свидетельствует, впрочем, о непрерывном стремлении найти точные нормы для быстро развивающихся и резко обозначающихся общественных отношений.
[75] Там же, стр. 114, ср. Ключевского, «Боярская Дума», стр. 53.
[76] Ср. «Очерк истории общественного государственного строя Польши» д-ра Ст. Кутшебы. Перевод с польского Η.В.Ястребова, С.-Петербург, 1907, стр. 9–11.
[77] Болеслав Храбрый был современником Владимира Святого. Если, как мы только что видели, в Польше дружина исчезает после Болеслава Храброго, то на Руси после смерти Владимира еще долго процветает дружинный быт, так ярко выразившийся в былинах.
[78] Грушевский. Очерки истории украинского народа, стр. 117–118.
[79] В.О.Ключевский, указав на то, что очередной порядок княжеского владения «приучил дружину к подвижности», замечает: «благодаря этой подвижности, старшие дружинники... занимавшие высшие правительственные должности, не могли занимать их долгое время в одних и тех жe волостях и через это приобретать прочное местное политическое значение в известной области, тем менее могли превращать свои должности в наследственные, как это было на феодальном Западе и в соседней Польше» (Курс, ч. 1, стр. 239). Тут следствие ставится на место причины. При свободном переходе дружинников ничто не мешало им оставаться в данной волости при перемене в ней князя. Если бы они приобрели там прочное политическое значение, то новый князь не имел бы возможности устранить их от занимаемых ими должностей, особенно, если бы они уже сделались наследственными. Стало быть, весь вопрос в том, почему они не сделались таковыми. А на этот вопрос отвечает, не подозревая этого, сам проф. Ключевский. «Но легко заметить, – говорит он, – что боярское землевладение развивалось слабо, не составляло главного экономического интереса для служилых людей. Дружинники предпочитали другие источники дохода, продолжали принимать деятельное участие в торговых оборотах и получали от своих князей денежное жалованье» (Там же, та же стр.). Теперь все попятно. Если бы главным источником дохода дружинников являлось независимое от князя землевладение, то им не надо было бы переходить за князем с места на место. Но так как главный доход их шел от князя, то они и «приучались к подвижности». Чтο же касается их торговых оборотов, то о них речь будет ниже.
[80] Грушевский, там же, стр. 98–99.
[81] Летопись по Ипатскому списку, стр. 486.
[82] Грушевский, стр. 131. Он же говорит о следах западного влияния в галицкой архитектуре и литературе (стр. 130).
[83] Ключевский, Боярская Дума, стр. 59.
[84] Анти-Дюринг, стр. 149 русск. перевода (в изд. В. И. Яковенко).
[85] Когда этого требовали их интересы, князья сами приводили кочевников в русскую землю, нисколько не стесняясь тем, что «поганые» убивали и разоряли христиан.
[86] См. проф. Ключевского. Курс русской истории, ч. I, стр. 193.
[87] Очерки истории украинского народа, стр. 110.
[88] А.С.Пушкин, вполне разделявший мысль о полном своеобразии русского исторического» процесса, говорит в разборе «Истории русского народа» Н.Полевого: «Освобождения городов не существовало в России. Новгород на краю России и соседний ему Псков были истинные республики, а не общины (communes), удаленные от великого княжества и обязанные своим бытием сперва хитрой покорности, а потом слабости враждующих князей» (Полное собр. сочинений под редакцией П.О.Морозова, изд. второе, т. VI, стр. 47). Это чрезвычайно важная мысль. Свободолюбивое население северно-русских республик не являлось элементом внутреннего развития в той части страны, – Киев, Москва, – которая в данный период определяла своим влиянием направление политической жизни России. Пo отношению к этой части оно являлось, наоборот, внешней силой, столкновения с которой об᾽единяли ее население с князем. Мы скоро увидим, что подобное же замечание приходится сделать и по поводу других представителей свободолюбивых стремлений – казаков.
[89] Курс русской истории, ч. I (изд. 3-е), стр. 73.
[90] «Надобно вслушаться в название новых суздальских городов: Переяславль, Звенигород, Стародуб, Вышгород, Галич, – все это южно-русские названия, которые мелькают чуть на каждой странице старой киевской летописи в рассказе о событиях в южной Руси; одних Звенигородов было несколько в земле Киевской я Галицкой. Имена киевских речек Лыбеди и Почайны встречаются в Рязани, во Владимире-на-Клязьме, в Нижнем-Новгороде. Известна речка Ирпень в Киевской земле, приток Днепра... Ирпенью называется и приток Клязьмы во Владимирском уезде. Имя самого Киева не было забыто в Суздальской земле: село Киево на Киевском овраге знают старинные акты XVI столетия в Московском уезде; Киевка – приток Оки в Калужском уезде, село Киевцы – близ Алексина в Тульской губ. В.Ключевский. Курс русской истории, ч. I, стр. 357–358. По совершенно справедливому замечанию Ключевского, это перенесение южно-русской географической номенклатуры на отдаленный суздальский север было делом переселенцев, приходивших сюда киевского юга. Тот же ученый с неменьшим основанием говорит, что по городам Соединенных Штатов Сев. Америки можно репетировать географию доброй доли Старого Света. К этому надо прибавить однако, что в Соед. Штатах чаще всего встречаются названия английских городов, так как в течение долгого времени туда переселялись главным образом англичане, процесс возникновения народа, называемого иногда «янки», был лишь процессом возникновения некоторых особенностей в той части английского племени, которая переселилась в Сев. Америку.
[91] Там же, стр. 407–408.
[92] Замечу мимоходом: это показывает, что великорусский обычай ношения бороды впоследствии совершенно чуждый малороссам, господствовал тогда и в южной Руси, так что великоруссы остались хранителями старого южно-русского обычая.
[93] Ключевский. Курс, ч. I, стр. 403.
[94] Ключевский. Курс, ч. I, стр. 382–383.
[95] Ключевский. Курс, ч. I, стр. 184.
[96] Ключевский. Курс, ч. I, стр. 185.
[97] Летопись по Ипатскому списку, стр. 37.
[98] К тому же при господстве натурального хозяйства крайне трудно, а, вернее сказать, совсем невозможно обобрать производителя так «чисто», как удается сделать это на высших ступенях экономического развития. В Киевской Руси экономически немыслимы были бы финансовые кудесники наших дней. Всякому овощу свое время. В обществе, разделенном на классы, «закон экономического развития» заключается в том, что все более и более возрастает та доля, которую берут у народа его «сторожа» и зксплоататоры.
[99] «Дань, шедшая киевскому князю с дружиной, питали внешнюю торговлю Руси». Ключевский. Курс, ч. I, стр. 186.
[100] Завоевание арабами Египта и Сирии, откуда доставлялся хлеб на константинопольский рынок, даже содействовало развитию земледелия на Балканском полуострове (см. Pierre Grenier, L'empire Byzantin, son йvolution sociale et politique, t. 1., стр. 160. Вернее, пожалуй, предположить, что завоевание рабами Египта и Сирии усилило не земледелие на Балканском полуострове, а только вывоз его продуктов на рынок, прежде удовлетворявшийся сирийскими и египетскими продуктами.
[101] Впрочем понятия наших иcследователей о капитализме довольно своеобразны. В.О.Ключевский отождествлял капитал со «средствами для работы» (см. «Боярская Дума древней Руси», стр. 10).
[102] «Боярская Дума», стр. 22.
[103] Вернер Зомбарт определяет разбойничью торговлю (Raubghandel) как торговлю, при которой продавцы не производят сами своих продуктов и не покупают их, а берут их силой (Der Moderne Kapitalismus, erster Band, S. 163). Нельзя не признать, что торговля, которую вели русские князья и их дружинники киевского периода, имела очень много общего с такой разбойничьей торговлей. О промышленность итальянских средневековых городов дает понятие интересная работа Ρомоло д᾽Айано, «Der Yenetianische SeidenUid. Organisation bis zum Ausgang des Mittelaters». Stuttgart, 1893.
[104] Курс, ч. II, стр. 66.
[105] Taк и понимали это люди того периода. Летописец вкладывает в уста Святослава следующие разсуждения о преимуществах Переяславца на Дунае: «Яко ту вся благая сходиться: отъ грƀкь паволоки, золото, вино и овощи разноличныя (т.-е., вероятно, южные плоды. Г.П.),и изъ Чеховъ, и изъ Угоръ среберо и комени, изъ Руси же скора и воскъ, медъ и челядь» (Летопись по Ипатскому списку, стр. 44). Главными предметами русского вывоза были невольники, меха, воск и мед, – не только в Византию, но и вообще во всех направлениях русской торговли. «Меха, воск и мед были самым ценным из того, что производили земли киевского государства» (М.Грушевский. Кіевская Русь, т. I, стр. 33). Вот это последнее обстоятельство убедило некоторых исследователей, что охота была главной отраслью русской «промышленности» киевского периода. Однако, повторяю, оно показывает только то, при тогдашнем господстве натурального хозяйства продукты главной отрасли народи труда, земледелия, еще не входили или мало входили в торговый оборот, главными же предметами которого являлись продукты подсобных промыслов: охоты, пчеловодства и т.
[106] Курс, ч. I, стр. 382–383.
[107] «Боярская Дума», стр. 59.
[108] «Боярская Дума», стр. 98.
[109] Не следует думать, что князья и княжеские дружины киевского периода питались «скорой и медом». Они тоже ели хлеб и, вероятно, в немалом количестве, если судить по их аппетиту, воспетому былинами. Этот хлеб доставлялся, конечно, земледельцами того периода.
[110] Хотя в этом направлении принимают некоторые, весьма недвусмысленные меры уже князья удельной эпохи. «В их договорных граматах постоянно встречаем условие не перезывать и не принимать друг от друга людей, которые потягли к соцкому, тяглых или письменных. Точно так же князья стали препятствовать и уходу своих тяглых людей в боярские и монастырские вотчины». Проф. М.Любавский. Начало закрепощения крестьян (в юбилейном издании «Великая Реформа», т. I. стр. 9)
[111] «Боярская Дума», стр. 307.
[112] Были, правда, и такие служилые люди, которые сами работали на своих участках. Таких служилых людей мы встречаем также и в Литовской Руси. Но они везде стояли на самой низшей ступени служебной лестницы и впоследствии слились с крестьянством. Здесь речь идет не о них.
[113] Проф. Ключевский, там же, стр. 308.
[114] «Боярская Дума», стр. 308.
[115] М.Дьяконов. Очерки из истории сельского населения в Московск. государстве (XVI–XVII вв.), стр. 6–7, в XII вып. «Летописей занятий археограф. комиссии».
[116] Энгельман. История крепостного права в России, Москва, 1900, стр. 55. Благочестивые старцы не забывали, как видим, своих земных интересов.
[117] Энгельман, назв. соч., стр. 179.
[118] Курс, ч. II, стр. 372.
[119] Назв. статья в сборнике «Великая реформа», т. I. стр. 7.
[120] Там же, стр. 369.
[121] «Исследования народной жизни», вып. I, Москва, 1884 г., стр. 362. Ср. также Кеслерa «Zur Geschichte und Kritik des Gemeinde – Besitzes in Russland», I, стр. 106–107. n. III, стр. 33 и след.
[122] Один из многих примеров. «Июня-де 14-го сего 774-го года при указе из Государственной Коллегии Экономии прислано для поселения ведомства Экономического Воронежского уезда при селе Левой Розсоше на оставшую за удовольствием того села крестьян положенной порции землю из Оболенского уезда крестьян 150 душ, и велено оным крестьянам земли для пашни и других угодий отвесть против тамошних крестьян без всякого недостатка». Крестьяне села Левой Розсоши, «собравшись многолюдственно... кричали упорно, что они оных Оболенских крестьян к поселению не допустят, чего ради... послан был... капрал Силуян Хрипунов, который того июня 16-го репортом... об᾽явил, что-де по приезде его оные-ж села Левой Розсоши экономические крестьяне, собрався с дубьем и с дрекольем, как онаго капрала Хрипунова, так и показанных Оболенских крестьян намерялись бить и к поселению не допускают». Подлежащее начальство постановило: «просить от Воронежского господина губернатора и кавалера пристойной команды и при ней повеленное правлением исполнение учинить, а пущих ослушников, дабы им впредь того чинить было неповадно, в страх другим при вотчине наказать батожьем». В.И.Якушкин. Очерки по истории русской поземельной политики ХVIII и XIX вв., приложение, стр. 101–106.
[123] «Очерки», стр. 168–169. Подробнее об истории происхождения наших «устоев» см. в моей, изданной под псевдонимом А.Волгина, книге «Обоснование народничества в трудах г. Воронцова (В. В.)». С.-Петербург, 1896, стр. 101–121.
[124] «Граф П.Д.Киселев и его время», т. II, Спб., 1882, стр. 30. После всего сказанного выше ясно, однако, что и до указа 1769 г. общины государственных крестьян могли быт названы «свободными» лишь cum grano salis.
[125] Η.А.Благовещенский. Четвертное право. М. 1899, стр. 134.
[126] Histoire des Lagides, Tome troisiиme, Paris, 1906, стр. 179.
[127] См. La propriйtй fonciиre en Chaldиe d'aprиs les pierres limites (Kandourrous) du Musйe du Louvre par Edouard Сuq, porfesseur а la facultй de droit de l'universitй de Paris. Paris, 1907, стр. 720, 728 и др.
[128] Один из таких переворотов, совершившийся в 1069 г. нашей эр ы, Элизэ Реклю наивно описал как попытку «китайских социалистов» осуществить свои идеи. «Достаточно было перемены царствования, – назидательно прибавляет Реклю, – чтобы низвергнуть новый режим; который так же мало соответствовал желаниям народа, как и стремлениям высокопоставленных лиц, и который к тому же создал целый класс инквизиторов, сделавшихся настоящими землевладельцами» (Nouvelle gйographie, tome VII, p. 77). Это, не лишенное некоторого злорадства назидательное замечание об᾽ясняется тем, что Реклю в качестве анархиста (правда, совершенно платонического) терпеть не мог «государственных социалистов», к которым он совсем неосновательно приравнял китайского министра Ван-Ган-Че, совершившего в Китае «черный передел» 1069 г. На самом деле скорое крушение в Китае мнимого государственного социализма означало не более, как новое и скорое торжество служилых людей, стремившихся вернуть себе отобранную у них государством землю.
[129] А.Лaппо-Данилевский. Организация прямого обложения в Московском государстве со времен смуты до эпохи преобразований. СПБ., 1890, стр. 341–342.
[130] См. также интересную брошюру Mасперо «Du genre йpistolaire chez les Egyptiens de l'йpoque pharaonique», Paris, 1872, где описывается выбивание недоимок с помощью пальмовых розог. Палачами при этой фискальной операции служили обыкновенно негры.
[131] «Курс русской истории», проф. В.Ключевского, ч. I, Mocквa, 1908, стр. 383.
[132] К этому надо прибавить уже хорошо знакомое нам влияние кочевников, которое теперь выражалось между прочим в следующем: «со времени татарского господства князья усилили владычество на земле и на живущих на ней, потому что должны были отвечать за исправность платежей, следовавших ханам с земли и ея обитателей». «Промышленность древней Руси» Н.Аристова. Спб., 1866, стр. 49.
[133] «Анти-Дюринг», стр. 140. Орошение нужно было для всех, но ни одна группа жителей не принимала во внимание нужд других групп. Каждая считалась только со своим собственным интересом. «Отсюда, – по словам Ж.Маспэро, – происходили постоянные ссоры и драки. Чтобы заставить уважать права слабых и чтобы организовать систему распределения воды, необходимо было положить в стране, по крайней мере, начало той социальной организации, которую она имела впоследствии: Нил подсказал Египту его политическую конституцию точно так же, как он подсказал физическую конституцию его». Histoire ancienne des Peuples de l'Orient classique. Tome I. Paris, 1895, p. 70.
[134] Le courant d'idйes qui imposait а toute propriйtй, а toute fonction, а toute dйlйgation d'autoritй la forme fйodale, la condition de fief hйrйditaire, finit par tout emporter. De l'ancien pouvoir exercй par le suzerain sur sa terre concйdйe, sur son bйnйfice, il ne resta plus а l'йpoque capйtienne, que certaines prйrogatives et certains droits fixйs par la coutume: une apparence de соnsentement а la transmissiοn hйrйditaire, le droit plus ou moins contestй de reprendre le fief dans quelques cas dйterminйs; certains profits matйriels; breit une ombre de propriйtй» (Manuel des Institutions Franзaises, periode des capйtiens directs, par Achille Luсhaire, Paris, 1892, p. 151). Напомню еще раз, что Франция сделалась классической страной западно-европейского феодализма.
[135] «Записки о Московии». СПБ. 1866, стр. 28, Флетчера: «Образ правления у них весьма похож на турецкий, которому они, повидимому, стараются подражать... Правление у них чисто тираническое; все его действия клонятся к пользе и выгоде одного царя и, сверх того, самым явным и варварским образом». Затем Флетчер указывает, что порабощены не только крестьяне, но и дворяне, и отмечает полную необеспеченность имущественных прав обоих классов. По его словам, «и дворяне, и простолюдины в отношении к своему имуществу есть не что иное, как хранители царских доходов, потому что все нажитое ими рано или поздно переходит в царские сундуки» (»О государстве русском» и т.д., в издании Популярно-научной библиотеки. СПБ. 1906, стр. 33 и 33–34).
[136] «La propriйtй fonciиre en Chaldйe» par Eduard Cuq, page 72–8.
[137] «La Persia economica contemporanea», Roma, 1900, стр. 217 и след.
[138] С.Φ.Πлатонов. Очерки по истории смуты в Московском государстве XVI–XVII вв. Изд. третье. СПБ., 1910, стр. 148.
[139] Беляев. История Новгорода Великого. Москва. 1864 г., стр. 608 и 609. Ср. также «Историю России» Соловьева, кн. I, стр. 1375.
[140] См. В.Сергеевича, «Русские юридические древности», т. II, выпуск 2-й, СПБ., 1896, стр. 617–618.
[141] ... «On ne peut considйrer comme un devoir lйgal l'obligation morale, l'usage invйtйrй de porter les armes. Les nobles servaient a l'armйe en grande majoritй, mais, non pas sans exception, tandis que tous sans exception йtaient exempts de la taille. Et s'ils йtaient dispensйs de la taille, ce n'йtais pas parce qu'ils servaient, mais parce qu'ils йtaient nobles. Le privilиge n'йtait pas la rйcompense du service rendu, mais le droit de la naissance». La noblesse francaise sous Richelieu par la vicomte G. d'Avenel. Paris, стр. 40–41.
[142] Французское дворянство любило повторять, что короли – не более, как первые дворяне. «Les rois, plus d'une fois, mirent quelque affectation а dire: Nous ne sommes pas davantage. Cette paritй originelle йtait ce qui tenait le plus au coeur de la noblesse. Le souverain ne l'ignorait pas, et le Roi – Soleil lui – mкme n'aurait pas cru pouvoir battre un gentilhomme sans le faire tort». D'Avene1, там же, стр. 13. Московские князья и цари смотрели на этот вопрос иначе, да иначе же смотрели на него и их служилые «холопи», те за тычком не гнались.
[143] Ср. Α. Ρамбо. «Histoire de la civilisation Franзaise», т. I, pp. 228. «Legalement, les nobles n'йtaient tenus а combattre qu'en cas d'appel du ban er de. l'arriиre – ban. On y eut recours deux fois sous Louis XIII, chaque fois sous une forme diffйrrente et chaque fois, cet appel donna des rйsultats tellement dйsastreux ou tellement insignifiants, qu'il dйmontra l'impossibilitй de fonder sur lui la dйfense de l'Etat pour l'avcuir», D'Avene1, там же, стр. 54.
[144] «Боярская Дума древней Руси», изд. 4-е. Москва, 1909, стр. 313.
[145] Ср. Histoire de France, par Victor Duruy, Paris, 1893 т. I, стр. 545–546.
[146] См. Ключевского. Курс, ч. II, стр. 488 и след.
[147] См. I том известного сочинения Ж.Пико, Histoire des Etats Gйnйraux.
[148] Курс, ч. II, стр. 486.
[149] Ср. у Ключевского, там же, стр. 492.
[150] Ключевский, там жe, стр. 487.
[151] Ж.Пико, назв. соч., т. I, стр. 228.
[152] «Служилое землевладение в Московском государстве XVI века, СПБ., 1897, стр. 83
[153] «Колокол», No 51.
[154] Города Московского государства, СПБ., 1889, стр. 309–310.
[155] Там же, стр. 339, примечания.
[156] Там же, стр. 316.
[157] Там же, стр. 311–312.
[158] См. там же, стр. 173–175.
[159] «По смыслу постановлений Уложения, посад является торгово-промышленной тяглой общиной. На этом основании торговый промысел на посаде для лиц, к посадской общине не принадлежащих, запрещается законом: торговых крестьян, не принадлежащих к посадскому состоянию, 9 ст. XIX главы Уложения предписывает отдавать на крепкие поруки в том, что им впредь в лавках и погребах не сидеть и не торговать и варниц и кабаков не откупать, а самые их торговые и промышленные заведения продать тяглым людям... Тяглая торгово-промышленная посадская община скреплялась принципом безвыходности посадского состояния... Принцип безвыходности посадского состояния соединялся с обязательным прикреплением посадских тяглецов к определенной общине без права переходить в другие посады... Императорская Россия XVIII ст. унаследовала от Московского царства эту общину. В течение всего XVIII ст., вплоть до городового положения Екатерины II, посад остается общиной торгово-промышленных тяглецов старого типа, несмотря на все коснувшиеся его преобразования от Петра I до Екатерины II» (А.А.Кизеветтер. Посадская община в России XVIII ст. Москва, 1903, стр. 1–4). Как сильно старалось правительство утвердить стену, отделявшую крестьян от посадских людей, видно из того, что за женитьбу посадского человека на крестьянке без отпускной и за выход замуж девушки из посада за крестьянина правительство грозило в половине XVII в. смертною казнью (см. исследование А.Лaппо-Данилевского, Организация прямого обложения в Московском государстве, стр. 172, примечание). По замечанию г. Лаппо-Данилевского, строгость наказания показывает, что запрещение это часто нарушалось. Это так. Но она же показывает, как упорно боролось правительство со свободой передвижения.
[160] «Записки о Московии», стр. 115.
[161] Там же, стр. 116.
[162] «О формах промышленности вообще и о значении домашнего производства (кустарной и домашней промышленности) в Западной Европе и России», Москва, 1861 г., стр. 210–211.
[163] Более подробные указания на это находятся в моей книге против г. В. Воронцова, стр. 215–241. Проф. Ключевский указывает на то, что поместное землевладение «подорвало развитие русских городов и городской промышленности». «Курс», ч. II, стр. 302–303.
[164] Н.П.Πавлов-Сильванский. Государевы служилые люди, люди кабальные и закладные. 2-е изд., СПБ., 1909, стр. 223.
[165] Литовские князья считали себя законными наследниками всех земель Киевской Руси. Ольгерд говорил прусским рыцарям: Omnis Russia ad Letwinos devet simpliciter pertinere» (Проф. M.Γрyшевский. Очерк истории украинского народа, стр. 155, примечание).
[166] «Очерк истории Литовско-русского государства до Люблинской унии включительно», Москва, 1910, стр. 33.
[167] «Великое княжество Литовское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Баторія (1569–1586)», том первый, СПБ., 1901, стр. 518. – Как видим, в приведенных строках выражение народ употребляется И.И.Лаппо, согласно старинному долго господствовавшему польсько-литовскому обычаю, в смысле шляхетского сословия.
[168] Назв. соч., стр. 227; ср. также стр. 81 и 231.
[169] Ср. И.И.Лаппо, назв. соч., стр. 232. До чего доходило увлечение кальвинизмом, показывает такой пример: «в новгородском воеводстве из более чем 600 шляхетских домов греческой веры осталось неувлеченными реформацией лишь 16 или еще менее» (И.И.Лаппо, там же, стр. 235). Замечу от себя, что это увлечение подготовляло будущее торжество католицизма над православием.
[170] М.В.Довнар-Запольский. Исследование и статьи, т. I. Киев, 1909, стр. 335.
[171] См. там же, стр. 336.
[172] «История России с древнейших времен», книга первая, стр. 10.
[173] Там же, стр. 10–11.
[174] «История России с древнейших времен», книга третья, стр. 314.
[175] Проф. С.Ф.Платонов. Очерки по истории смуты, стр. 305.
[176] Проф. Грушевский. Очерки истории украинского народа, стр. 231.
[177] Там же, стр. 280.
[178] Там же, стр. 280–281.
[179] С.Φ.Πлатонов, назв. соч., стр, 481; сравни также стр. 483.
[180] Проф. Грушевский, назв. соч., стр. 281.
[181] Haзв. соч., стр. 601, примеч. 252.
[182] Voyage aux grands Lacs d'Afrique orientale, par le capitaine Burton, Paris, 1862, p. 672.
[183] См. назв. соч. г. И. Лаппо-Данилевского, стр. 169.
[184] «Курс», ч. III, стр. 473.
[185] П.Н.Павлов-Сильванский, «Государевы служилые люди», стр. 235.
[186] Павлов-Сильванский, назв. соч., стр. 240.
[187] Ключевский, «Курс», ч. 4-я, стр. 352.
[188] «Книга о скудости и богатстве», с предисловием А.А.Кизеветтера. Москва, 1911. стр. 78–79.
[189] См. чрезвычайно интересный фельетон Е.В.Τарле «Император Николай I и дворянство (1842–1847)», напечатанный в «Речи» от 17 октября 1911 г. Автор рассказывает, на основании неизданных донесений французского посланника, как настойчиво и успешно противилось русское дворянство намерениям Николая I внести некоторые ограничения в крепостное право помещиков. Перье писал министру Гизо в одном из своих донесений (от 8/20 апреля 1842 г.), что Николай «отступил, не желая признаваться в этом, перед затруднениями, которых не предвидел, пред недовольством дворянства, которое взволновалось, когда увидело посягательство на свои богатства и старинные права».
[190] «Речь», No 127, 11 мая 1912 г.
[191] «Курс», ч. III, стр. 455.
[192] См. Соловьева, «История России», книга 3-я, стр. 67. Курьезно, что «тишайший» Алексей Михайлович, очень огорченный побегом молодого Нащокина, хлопотал о возвращении его из-за границы, а на случай неудачи находил нужным «извести его там», причем советовал с большою осмотрительностью приучать старика Нащокина к мысли о «небытии на свете» его беглого сына (См. Соловьева, там же, стр. 69).
[193] «Государственное хозяйство в России в первой четверти XVIII ст. и реформа Петра Великого», СПБ., 1892, стр. 268–269.
[194] По мнению проф. С.Ф.Платонова, Петр в своей экономической политике «отдавал дань идеям своего века, создавшим на Западе известную меркантильно-покровительственную систему» (Лекции по русской истории, изд. 6-е, стран. 488–489). Петр больше всего отдавал тут дань старой Москве, с которой он так жестоко воевал в других случаях.
[195] Насчет Халдеи надо, впрочем, сделать вот какую оговорку. Когда халдейский царь эпохи касситов «отписывал на себя» землю той или другой из своих черных волостей», он, пан отмечено мною выше, платил за нее вознаграждение (Сuq, La propriйtй fonciиre en Chaldйe, p. 720). Московские «самовластии» ничего никому не платили в таких случаях. Это значит, что Москва закрепостила своих «сирот» гораздо более основательно, нежели Халдея указанной эпохи.
[196] Ей трудно было бы вполне сравняться с ними вследствие менее благоприятных природных условий культурного развития.
[197] «Хотя что добро и надобно, а новое дело, то наши люди без принуждения не сделают», – рассуждал Петр и потому предписывал мануфактур-коллегии действовать на фабриках «не предложением одним но и принуждением». В 1723 г. он, оглядываясь назад, говорил что у него «все неволею сделано» (Ключевский, Курс, ч. IV. стр. 143–144). В виду этой «неволи», представлявшей собою самое выдающееся из всех «начал» московской жизни, В.О.Ключевский имел полное право сказать, что при Петре «русское общество окончательно получило тот склад, какой стремилось дать ему московское законодательство XVII века» (Там же, стр.281).
[198] См. «Крестьянский вопрос в России», В. И. Семевского, т. 2, стр, 135, 136 и 138.
[199] Семевский, там же, стр. 138.
[200] См. мою статью «Освобождение крестьян», «Совр. Мир», 1911, кн. 2.
[201] Эти строки были уже набраны, когда я прочитал чрезвычайно обстоятельную брошюру А.Е.Лосицкого, «Распадение общины», СПБ., 1912. Очень рекомендую вниманию читателя окончательный вывод уважаемого статистика: «несмотря на политические тенденции нового законодательства об общине и его недостатки, а равно и способы его проведения, оно оказалось отвечающим интересам значительных масс крестьянства, получило широкое применение и имеет серьезный характер. Распространение укреплений и, особенно, разверстаний и выделов знаменует двияжение деревни от феодального уклада к капиталистическим отношениям, но оно оставляет нерешенными вопросы о крестьянском малоземельи и о безправии, – борьба с которыми еще впереди» (стр. 44).
[202] Известна та острота гр. Растопчина, что у нас аристократы поставили перед собой такую политическую задачу, которую во Франции ставили перед собою «сапожники».
[203] Император Генрих IV был отлучен от церкви папой Григорием VII в 1076 г.
[204] См. «Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII» von Dr. Carl Mirbt, Leipzig. 1894, cтp. 227–228.
[205] См. его «Geschichte der Staatstheorien», Innsbruck, 1905, стр. 98.
[206] Первым – в христианском мире. В античном мире теория «пропаганды действием» была довольно распространенной, по крайней мере в известных местностях, как об этом свидетельствует памятник Гармодию и Аристогитону, красовавшийся на одной из площадей Афин.
[207] Посвященные этим вопросам трактаты писались по-латыни. Знание же латинского языка было тогда почти исключительной принадлежностью духовного сословия. Ср. Мирбта, названное соч., стр. 121–130.
[208] Проф. Н.О.Каптерев, «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович», т. II, стр. 52. Выше было уже указано, что татарское иго содействовало укреплению независимости духовной власти.
[209] См. М.А.Дьяконова, «К истории древне-русских церковно-государственных отношений», «Сб. Историч. общ. при СПБ. университете», т. III, стр. 84.
[210] Дьяконов, там же, стр. 88.
[211] См. М.А.Дьяконова. «Власть московских государей – очерки из истории политических идей древней Руси до конца XVI в», СПБ., 1889 г., стр. 99.
[212] Maspеrо. Histoire ancienne des peuples de l'Orient classique, Paris, 1895, т. I, стр. 263. Сравни также стр. 263.
[213] Тут можно еще заметить, что и на Востоке обоготворение монархов не всегда было так полно, как в Египте. По словом Маспэро, халдейские короли были в этом отношении значительно скромнее современных им фараонов: «Они довольствовались средним местом между своими подданными и божеством» (там же, т. I, стр. 703). Mutatis mutandis, на подобное среднее место между богом и подданными пред᾽являли претензии и московские самодержцы.
[214] «Власть московских государей», стр. 114.
[215] Μ.А.Дьяконов, «Очерки общественного и государственного строя древней Руси», СПБ., 1908, стр. 400. У г. Дьяконова речь идет об Изборнике 1073 г.
[216] Оно не было таковым между прочим и в Византии. При случае византийское духовенство умело оказать светской власти довольно деятельное сопротивление, как это показывает история иконоборства. Но, говоря вообще, духовная власть была сильно подчинена в Византии светской власти, и это обстоятельство наложило свои глубокий след на те общественные теории, которые пришли к нам из Византии вместе с христианским духовенством.
[217] В.Жмакин, «Митр. Даниил», стр. 94, примеч. 2-е. Цитировано у Дьяконова, «Власть московских государей», стр. 127.
[218] В московской Типографской библиотеке есть рукописный синодик, по которому совершался чин православия в Ростове в 1612 году и в котором против анафемы «на обидищих святыя Божіи церкви и монастыри» сделана заметка для протодьякона: «возгласи вельме!» (А.Павлов, «Исторический очерк секуляризации церковных земель в России», ч. I, Одесса, 1871 г., стр. 51).
[219] Дьяконов, там же, стр. 127. Сравни его же «Очерки общественного государственного строя древней Руси», стр. 417. Впрочем, надо заметить, что, по мнению некоторых исследователей, автор «Слова» был западно-руссом. Мнение это подтверждается указанием на его хорошее знакомство с католической каноникой. Но, как заметил А. Павлов, и в Московском государстве, – в Новгороде, – были люди, знавшие латинский язык и католическое богословие. А.Павлов склонился к тому предположению, что слово написано было именно в Новгороде (см. названное сочинение, стр. 62–63, примечание).
[220] Дьяконов, «Очерки», стр. 416. Иосиф сделал эту «революционную» прибавку к своему учению не в споре о монастырских имениях, а в споре о том, нужно или не нужно преследовать ересь «жидовствующпх». Но это тем менее изменяет дело, что «жидовствующие» тоже стояли за секуляризацию церковных имуществ, вследствие чего довольно долго пользовались весьма заметным сочувствием Ивана III.
[221] Е.Голубинский, «История русской церкви», 1-я половина 2-го тома, Москва, 909, стр. 683.
[222] Голубинский, там же, примечание к стр. 634.
[223] «Власть московских государей», стр. 129.
[224] «Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович», том II, стр. 57. Впрочем, проф. Каптерев мог бы заметить, что еще гораздо раньше почин протеста против флорентийской унии взяла на себя не духовная власть, а светская.
[225] Там же, стр. 167.
[226] Там же, стр. 73.
[227] Н.Ф.Каптерев, там же, стр. 211.
[228] Там же, стр. 193.
[229] Там же, стр. 196.
[230] Н.Ф.Каптерев, там же, стр. 74.
[231] Η.Φ.Каптерев, там же, стр. 129.
[232] Там же, стр. 10.
[233] Н.Ф.Кaптерев, там же, стр. 206–207.
[234] Во 2-м томе своего интересного сочинения проф. Каптерев дает, можно сказать, всестороннюю характеристику Паисия Лигарида. Оказывается, что этот светильник церкви был не только маклером и обманщиком (см. стр. 269, 271, 272 и 273 2-го тома), но считался «латынщиком» и был одно время отлучен от церкви и даже проклят иерусалимским патриархом. Предусмотрительный Алексей Михайлович настойчиво хлопотал о снятии с Паисия Лигарида отлучения и проклятия и о восстановлении его в правах газского митрополита. Как и следовало ожидать, хлопоты его увенчались полным успехом. Москва заплатила иерусалимскому патриарху за прощение Паисия больше тысячи рублей, что но тому времени составляло довольно крупную сумму (стр. 509, 511, 517 того же тома). Для характеристики Лигарида имеет также большое значение стр. 517 того же тома названного сочинения.
[235] Теории двух светильников держались и теоретики римско-католического духовенства. Но у них она получила совершенно другой смысл, несомненно, более сообразный с требованием логики. Один из двух существующих в природе светильников заимствует свой свет от другого. Какая же власть должна играть роль луны: светская или духовная? В этом был весь вопрос. Средневековые теоретики западно-европейского духовенства смело подходили к нему и, не колеблясь, решали его в пользу духовной власти. А теоретики восточного духовенства, участвовавшие на московском соборе 1667 г. и тоже выдвинувшие теорию двух светильников, не имели мужества коснуться того, что составляло ее сущность. Они придали ей логически неправильное толкование и единственно поэтому могли воспользоваться ею для компромисса. Никакая общественная теория нигде не развивается сама из себя, своею внутреннею силой: везде и всегда развитие всякой данной общественной теории определяется соотношением общественных сил.
[236] Известно, что «местоблюститель патриаршего престола» Стефан Яворский не одобрял реформ Петра и даже позволял себе иногда в своих проповедях кое-какие выходки против них. Но как легко было Петру привести его в трепет, показывает известное дело «еретика» Тверитинова. Стефан Яворский повел себя в этом деле несогласно с царской волей; Петр рассердился, и на-смерть испугавшийся местоблюститель извинялся перед ним в таких выражениях: «Великодержавнейший царь, государь премилостивейший! В настоящее время великострастного пятка, егда Христос на кресте гласит кличем велиим: отче! отпусти им, – желаю себе и аз подражати Христу. Сего ради к вашему царскому величеству, аки к общему всех нас отцу, припадая, вопию: отче! отпусти. Тамо Христос гласит: не ведят бо что творят, не ведях и аз, яко то дело, еже сотворих, неугодно имело быти пред вашим царским величеством. Аще жe в невежестве согреших, убо грех мой достоин есть прощения, ибо и Павел апостол глаголет: гоних, рече, по премногу церковь Божию, но сего ради помилован был яко в невежестве сие сотворих». См. соч. Тихонравова, т. II, «Русская литература XVII и XVIII вв.», Москва, 1898, стр. 275. Униженнее выражаться невозможно. Униженнее, наверно, никогда не выражались и духовные иерархи «растленной Византии».
[237] Он приехал в конце 30-х годов XVI века (см. наследование В.Φ.Ρжиги «И.С.Пересветов, публицист XVI в.», Москва, 1908, стр. 13).
[238] См. 71-ю стр. только-что названного исследования В. Φ. Ρжиги. В приложении к этому исследованию, начиная с 59-й стр., напечатаны собственные сочинения Пересветова.
[239] Там же, стр. 70.
[240] «Сказания князя Курбского», изд. 3-е, Н.Устрялова, СПБ., 1868 г., стр. 158.
[241] Г. Ρжига думает, что сказание Пересветова о царе Константине написано в 1546 г. или в 1547 г. (Наз. сочин., стр. 19).
[242] Там же, стр. 70–71.
[243] Там же, стр. 72.
[244] Там же, стр. 73.
[245] Там же, стр. 74.
[246] Там же, стр. 74.
[247] Там же, стр. 74.
[248] Там же, стр. 76.
[249] Там же, стр. 76.
[250] Там же, стр. 75.
[251] Вот как описывает это явление Авраамий Палицын в своем «Сказании». Правда, его описание относится уже к царствованию Феодора Ивановича, а закабаление ставится им в вину главным образом Борису Годунову и его сторонникам. Однако, мы можем с уверенностью сказать, что явление это началось уже в царствование Ивана IV и что закабалять рабочие силы стремились все тс землевладельцы, которые имели необходимые для этого средства. Палицын пишет о нем так: «Борис Годунов в инии мнози от велмож, не токмо род его, но и блюдомии ими, многих человек в неволю к себе введше служить, инех же ласканием і дарами в домы своя притягнувше, – и не от простых токмо ради нарочитого рукодельства или какова хитра художества, но и от чествующих издавна многим имением и с селы и с винограды, наипаче же избранных меченосцев и крепцих со оружии во бранех, и светлы и красны образом и взрастом лишествующи. И многии инии, начальствующем последствующе, в неволю поработивающе кого мощно и написание служивое силою и муками емлюще, инex же винца токмо испити взывающи – и по трех или по четырех чарочкох достоверен неволею раб бываше тем». См. «Памятники древней русской письменности, относящиеся к Смутному времени», в XIII томе Русской Исторической библиотеки, издаваемой археографическою Комиссею, стр. 482–483.
[252] Там же, стр. 75.
[253] Там же, та же страница.
[254] Там же, та же страница.
[255] Там же, стр. 78.
[256] Там же, стр. 66.
[257] Там же, та же страница.
[258] Там же, стр. 62.
[259] Там же, та же страница.
[260] Там же, стр. 65.
[261] Там же, та же страница.
[262] Там же, стр. 67.
[263] Там же, стр. 72.
[264] Там же, стр. 65.
[265] Там же, стр. 63.
[266] Там же, стр. 63.
[267] Там же, стр. 68.
[268] Там же, стр. 68
[269] Там же, стр. 78–79.
[270] Там же, стр. 78.
[271] Там же, стр. 67.
[272] Вот почему нельзя без оговорки принять то мнение г. Ржиги, что возражение против рабства заставляет предполагать связь Пересветова с той средой, в которой зарождались тогдашние ереси. Г. Ржига указывает на Матвея Башкина, осужденного на церковном соборе 1553–1551 гг. и, подобно Пересветову, признававшего рабство несогласным с духом христианского учения. Но в том-то и дело, что, высказываясь против рабства, Пересветов опирается не только на богословское соображения. Он рассуждает с точки зрения государственных интересов. В его отзыве о влиянии рабства слышен прежде всего враг бояр, закабаливавших трудящееся население. А так как врагов боярства много было в тогдашнем служилом сословии и кроме Пересветова, то можно предполагать, что боязнь боярского засилия приводила и некоторых других нисших людей к убеждению в том, что полезно было бы освободить холопов. Известно, например, что поп Сильвестр освободил всех своих кабальных.
[273] См. Les six livres de la Rйpublique de J. Bodin, Angevin. – A. Paris, 1580. Livre second, p. 273.
[274] Там же, стр. 274.
[275] Там же, стр. 276.
[276] Проф. Ключевский называл «аномалией» соединение «в одном существе верховной власти» двух непримиримых свойств: царя и вотчинника («Курс русской истории», ч. III, стр. 16). С несравненно большим основанием Бодэн считал примирение, а лучше сказать, полное совпадение этих двух свойств вполне нормальным для восточных деспотии. Ключевский говорит: «государство понимали не как союз народный, управляемый верховной властью, а как государево хозяйство, в состав которого входили со значением хозяйственных статей и классы населения, обитавшего на территории государевой вотчины. Поэтому народное благо, цель государства, подчинялось династическому интересу хозяина земли, и самый закон носил характер хозяйственного распоряжения, исходившего из москворецкой кремлевской усадьбы и устанавливавшего порядок деятельности подчиненного преимущественно областного управления, а всего чаще – порядок отбывания разных государственных повинностей обывателями» (Там же, стр. 16). Но именно то же встречаем мы во всех восточных деспотиях. И если это «аномалия», то надо сказать, что в восточных деспотиях она служила «нормой» в продолжение многих веков и даже целых тысячелетий.
[277] Дьяконов, «Очерки общественного и политического строя древней Руси», стр. 269–270.
[278] «Летопись занятий археографической комиссии, 1885–1887 гг., пып. X, СПБ., 1895, стр. XIX, отд. II.
[279] «Летопись археографической комиссии», отд. II,стр. 2.
[280] Там же, стр. 2–3.
[281] Там же, стр. 24–25.
[282] Там же, стр. 27.
[283] Там же, стр. 25.
[284] Там же, стр. та же.
[285] Там же, стр. 21–22.
[286] Там же, стр. 21.
[287] Там же, стр. 10.
[288] Там же, стр. 23.
[289] Там же, стр. 20.
[290] Там же, стр. 21.
[291] Там же, стр. 11.
[292] Там же, стр. 26.
[293] Там же, стр. 9.
[294] Там же, та же страница.
[295] «Очерки по истории смуты», стр. 147.
[296] Ρжига, названное соч., стр. 79.
[297] «Сказание князя Курбского», стр. 37–38.
[298] «Летопись занятий археографической комиссии», отд. II, стр. 17.
[299] Там же, стр. 17–18.
[300] Там же, стр. 29–30.
[301] Пыпин, «История русской литературы», т. II, стр. 157.
[302] Там же, страница та же.
[303] Там же, стр. 151–152.
[304] «Сказания кн. Курбского», стр. 10.
[305] Там же, стр. 162.
[306] В.А.Келтуяла считает попа Сильвестра «выразителем интересов торгово-промышленного класса населения «посадских» на том основании, что он обладал большим состоянием и находился в деятельных торговых сношениях с русскими и иностранными купцами («Курс», ч. I, кн. 2-я, стр. 626). Но богатый священник, ведущий большие торговые обороты, не всегда переходит на точку зрения торгово-промышленного класса, хотя, разумеется, не может и пренебрегать его интересами. Впрочем, если бы взгляд В.А.Келтуялы и был справедлив, то он явился бы только новым доводом в пользу того моего мнения, что «избранная рада» не была органом чисто боярского влияния: по мнению г. Келтуялы, духовенство было представлено в «избранной раде» митрополитом Макарием.
[307] Известен прием, оказанный им псковитянам, пришедшим жаловаться на своего воеводу кн. Турунтая: он «опалился» на них страшным гневом и стал их мучить, что называется ни за что ни про что. Курбский рассказывает, что Иван «начал первее безсловесных крови проливати с стремнин высоких мечюще их... Егда же уже приходяще к пятомунадесять лету и вяще, тогда начал человеков уроняти. И собравши четы юных около себя детей и сродных оных предреченных сигклитов, по стогнам и по торжищам начал на конех с ними ездити и всенародных человеков, мужей и жен, бити и грабити, скачуще и бегающе всюду неблагочеше (»Сказания», стр. 6)». Образумить такого удальца важно было для всех жителей страны без различия званий и состояний.
[308] «Сказания», стр. 165.
[309] Там же, стр. 164.
[310] «Сказания», стр. 132.
[311] Там же, та же страница.
[312] «Сказания», стр. 85.
[313] «Сказания», стр. 192.
[314] Там же, та же страница.
[315] В ответе на второе письмо Ивана Курбский употребляет негодующее выражение: «тот ваш издавна кровопивственный род». «Сказания», стр. 203. Тут мы видим скорее столкновение двух княжеских родов, ведущих свое происхождение от одного общего корня, нежели столкновения в аристократии с верховной властью.
[316] Спорившие между собою из-за «мест» родовые московские бояре апеллировали к «Родословцу», а «Родословец» опять напоминал об их родственной связи с владетельным домом.
[317] «История русской литературы», т. II, стр. 171.
[318] Это было одно из немногих прав служилых людей, формально признававшихся князьями. В последний раз оно признано было в договоре великого князя Василия Ивановича с родным братом своим Юрием Ивановичем в 1531г. (М. Дьяконов, «Очерки», стр. 255). Но в том-то и беда, что признавалось оно в договорах князей между собою, а не в договорах государей со служилыми людьми. Московское служилое сословие не доросло до таких договоров. Оттого в практику московских государей издавна вошло наказание тех, пользовавшихся правом от᾽езда, служилых людей, которые снова попадали в их руки.
[319] «Сказания», стр. 202.
[320] Там же, та же страница.
[321] Там же, стр. 204.
[322] Там же, стр. 39–40.
[323] Там же, стр. 40.
[324] «Сказания», стр. 153.
[325] Выше я сказал, что формула: иное дело власть святительская, а иное – власть земная, страдает крайней растяжимостью. Это лучше всего подтверждается ссылкой на нее деспотического Ивана, до последних пределов распространившего свою «земную» власть и жестоко каравшего святителей, хоть немного склонных к независимости.
[326] Там же, страница та же.
[327] «Сказания», стр. 19.
[328] Там же, та же страница.
[329] Там же, та же страница.
[330] Там же, стр. 180–181.
[331] Там же, стр. 139.
[332] Там же, стр. 185.
[333] Там же, стр. 185–186. Пречреслие – боль в пояснице.
[334] На это обвинение, поскольку оно касалось лично его, Курбский возражал: «Аще и зело многогрешен есмь и недостоин, но обаче рожден бых от благородных родителей, от племени ж великого князя Смоленского Феодора Ростиславича, яко и твоя царская высота добре веси от летописцев Русских, иже тое пленицы княжата не обыкли тела своего ясти и крове братии своей пити, яко есть некоторым издавна обычай, яко первее дерзнул Юрий Московский в орде на святого великого князя Михаила Тверского, а потом и прочие, сущие во свежей еще памяти и пред очима, что Углицким учинено и Ярославичем и прочим единыя крови, и како их всеродне заглажено и потреблено... еже ко слышанию тяжко, ужасно!... от сосцов матерних оторвавши, во премрачных темницах затворенно и многими леты поморенно, и внуку оному блаженному и присно Боговенчанному! А тая твоя царица, мне, убогому, ближняя сродница, яко узришь сродство оно на стране того листа написано» («Сказания Курбского», стр. 202–203.). Курбский опять рассуждает как человек более всего гордый своим происхождением от одного общего корня с царствующим домом.
[335] «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны ж есмя». «Сказания», стр. 156.
[336] Там же, стр. 147.
[337] «Сказания», стр. 136–137. Сравни также стр. 141.
[338] Там же, стр. 141.
[339] Там же, стр. I54.
[340] Записки Маскевича в «Сказаниях современников о Димитрии Самозванце», V, стр. 8, СПБ., 1834.
[341] Записки Маскевича, та же стр.
[342] Mнe, пожалуй, могут напомнить, что сам Пересветов был литовским выходцем. Но его сочинения носят на себе такой глубокий отпечаток московских порядков, что мы имеем право не относить на счет его литовского происхождения мысли его о нравственном влиянии свободы.
[343] Курс русской истории. Часть III, стр. 68.
[344] Там же, стр. 17.
[345] Сообщение об этих отзывах относится в записках Маскевича к 1611 г.
[346] Там же, стр. 43.
[347] «Памятники истории Смутного времени», под ред. А. И. Яковлева. Изд. Клочкова. Стр. 17. Москва, 1909.
[348] Ключевский. «Курс русской истории», часть III, стр. 44. Ср. также «Боярская Дума древней Руси», стр. 366–367.
[349] «Курс», стр. 44–45. Ср. «Боярская Дума», стр. 367.
[350] С.Φ.Πлaтонов. «Очерки по истории Смуты», изд. 3-е, стр. 286–287. Сообщение о том, что царь обещал в церкви ничего не делать без Земского Собора, проф. Платонов об᾽ясняет недоразумением: летописец просто плохо понял царские слова и записал их несогласно с текстом подлинной подкрестной записи (См. там же, стр. 286).
[351] «Курс», стр. 46. Своим содержанием подкрестная запись царя Василия означала, по мнению Ключевского, отказ еще от той привилегии, которую дед Грозного выразил словами: «кому хочу, тому и дам княжение». Но эти слова относятся к вопросу о праве наследования престола, между тем как подкрестная запись совсем не касается этого вопроса.
[352] «Описание путешествия в Московию и через Московию в Персию и обратно», стр. 223. СПБ. 1906.
[353] Там же, та же страница.
[354] «Курс русской истории», часть III, стр. 50.
[355] По поводу запрещения крестьянских переходов мы встречаем следующее ватное замечание у проф. Платонова: «Этот пункт нельзя еще считать доказательством того, что в 1610 году переходы крестьянские были в Москве уже уничтожены. В этом требовании могло выразиться только желание договаривавшихся уничтожить переход, а не отмечался совершившийся факт» (Лекции по русской истории, изд. 6-е, стр. 258).
[356] «Памятники истории Смутного времени», стр. 47.
[357] Там же, стр. 48.
[358] «Очерки по истории Смуты», стр. 403.
[359] «Лекции по русской истории», изд. 6-е, стр. 259.
[360] См. «Курс», часть III, стр. 85.
[361] «Памятники истории Смутного времени», стр. 48.
[362] Там же, стр. 48–49.
[363] «Курс», часть III, стр. 52.
[364] «Внешняя политика государства вынуждала все большее напряжение народных сил. Достаточно краткого перечня войн, веденных первыми тремя царями новой династии, чтобы почувствовать степень этого напряжения... Если вы рассчитаете продолжительность всех этих войн, увидите, что на какие-нибудь 70 лет (1613–1682) приходится до 30 лет войны, иногда одновременно с несколькими неприятелями» (Ключевский. Курс, III, 161).
[365] «Рать в конец заедала казну, – говорит Ключевский. – Сопоставляя по возможности однородные части войск... находим, что с 1631 года вооруженные силы, лежавшие на плечах казны, возросли почти в 2Ѕ раза (в течение полувека)». Там же, стр. 275 и 278.
[366] Курс, III, стр. 299 и 300.
[367] Григ. Котошихин. О России в царствование Алексия Михайловича. Стр. 141–142. СПБ. 1884.
[368] «Очерки по истории русской культуры», ч. III, выпуск 1, стр. 86.
[369] Ключевский. Курс, III, стр. 96–97.
[370] Там же, стр. 97.
[371] Там же, стр. 244.
[372] «Поместья уездных дворян были вообще очень мелки и населены крайне скудно». В некоторых южных уездах «было много дворян совсем безземельных, однодворцев, имевших только усадьбы, без крестьян и бобылей, и пустоместных, у которых не было и усадеб... некоторые дворяне бросали свои вотчины и поместья, поступали в казаки или шли в боярские дворы кабальными холопами и в монастыри служками» (Ключевский, там же, стр. 111).
[373] Соловьев. История России, кн. II, стр. 1256, –57, –58.
[374] Там же, стр. 267.
[375] Там же, стр. 272.
[376] «Alors que le Parlement anglais remplaзait les petitions par des «bills» les Etats franзais continuaient а prйsenter leurs cahiers de dolйances, laissant au gouvernement le droit de ne tenir aucun compte de leurs demandes dans ses ordonnances. La mкme chose avait lieu en Russie, oщ les lois nouvйlles etaient dйcrйtйes directement par le czar et sa dоuma et oщ le «Verdict gйnйral du pays» resta pendant de longues annйes sans effet», Maxime Kowalewsky: «Institutions Politiques de la Russie». Paris. 1903, p. 98.
[377] «Liberae siquidem conditionis est, non servilis, ut pote regii regiminis subditus». Histoire des Йtats Gйnйraux par Georges Picot, 2-me йdit., t. I, p. 378–379.
[378] «Procuratores populi», как выражается тот же Масселэн в своем латинском дневнике Генеральных Штатов.
[379] Там же, стр. 377.
[380] Picot, названн. сочин., т. I, стр. 331 в примечании.
[381] Picot, назв. соч., т. II, стр. 5–6.
[382] Там же, тот же том, стр. 6–7.
[383] «Курс», III, стр. 185–186.
[384] См. примечание второе на стр. 156.
[385] История России, кн. III, стр. 804
[386] Курс, III, стр. 264.
[387] G.Picot. Histoire des Йlats Gйnйraux, t. IV, p. 244.
[388] Там же, та же страница.
[389] Там же, т. V, стр. 2–3.
[390] Ключевский. Курс, III, стр. 273.
[391] Курс, III, стр. 43.
[392] Там же, стр. 65.
[393] Соловьев. История России, кн. II, стр. 540.
[394] «Яз царь и великий князь Василей Ивановичь Всеа Русіи, целую крест всем православным християном, что мне жалуя судити истинным праведным судом, и без вины ни на кого опалы своей не класти, и недругом никому никого в неправде не подавати, и от всякого насильства отбегати». При чтении этих строк из записи В. Шуйского можно подумать, что они целиком взяты из поучения митрополита Дионисия.
[395] Памятники древней письменности, относящиеся к Смутному времени (Русская четор. библиот., издаваемая Археограф. комиссиею», том ХIII. СПБ. 1891, стр. 19–22).
[396] Н. Новомберский. Слово и дело государевы. Т. I. 1911. Стр. 49–50.
[397] Там же, стр. 78. Странно, что по этому делу от царя пришла грамота, предписывавшая нещадно наказать батогами не Ивашку Распопина, а стрельца Федьку Калачникова. Между тем из дела видно, что этот последний был за некоторое время до того зарезан тем самым Петром Резанцовым, который донес на Распопина. Московские дьяки, писавшие грамоту от имени царя, ошиблись, – тоже, пожалуй, «хмельным делом».
[398] Там же, стр. 553–554.
[399] Там же, стр. 498–499.
[400] Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 250.
[401] М.Козлович замечает, что уже самое название известного сказания Авраамия Палицына дает возможность понять воззрения и приемы автора (»История русского самосознания», изд. 3. стр. 75). Это верно. Вот как озаглавил Палицын свое сказание: «История в память сущим пред᾽идущим родом, да незабвена будут благодеяния, еже показа нам мати слова Божия, всегда от всея твари благословенная приснодевая Мария, и како соверши обещание к преподобному Сергію яко неотступно буду от обители твоея. – И ныне всяк возраст да разумеет и всяк да приложит ухо слышать, киих ради грех попусти Господь Бог наш праведное свое наказание и от конец до конец всея Росия, и како весь словенский язык возмутися и вся места по Росии огнем и мечем поядены быша» (Русск. истор. б-ка, т. XII, стр. 473).
[402] Курс истории русской литературы. СПБ. 1911, ч. I, кн. 2, стр. 730.
[403] Русская историческая библиотека, т. XIII, стр. 60 и 62.
[404] Русская ист. библ., т. XIII, стр. 60–64.
[405] Там же, стр. 261–262 и 262–263.
[406] Там же, стр. 300.
[407] Соловьев. История России, кн. II, стр. 1381.
[408] «Даже у лучших представителей этого круга, Вассиана Косого, Берсеня-Беклемишева, кн. Курбского, у автора валаамской беседы, успевших обдумать дома и повидать на чужбине много такого, чего не думала и не видала их рядовая братия, едва брезжит по-временам невыясненная и неустановившаяся мысль об общем народном благе и государственном порядке». Ключевский. Боярская Дума. Изд. 4-е, стр. 305.
[409] Приведя эти его слова, Ключевский как нельзя более кстати обращает внимание своих читателей на то, что они были произнесены выслужившимся дьяком. Там же, стр. 388.
[410] Соловьев. История, КН. III, стр. 880–881; ср. Ключевского. Курс русской истории, т. III, стр. 104.
[411] «В 1648 году мятежи в Москве, Устюге, Козлове, Сольвычегодске, Томске и др. городах; в 1649 г. приготовления к новому мятежу закладчиков в Москве, во-время предупрежденному; в 1650 г. бунты в Пскове и Новгороде; в 1662 г. новый мятеж в Москве из-за медных денег; наконец, в 1670–71 гг. огромный мятеж Разина на поволжском юго-востоке, зародившийся среди донского казачества, но получивший чисто социальный характер, когда с ним слилось им же возбужденное движение простонародья против высших классов» (Ключевский. Курс, т. III, стр. 308–309).
[412] Там же, стр. 309.
[413] В Пскове, в самый разграр «гиля», один человек, побывавший по торговым делам в одном из зарубежных городов, рассказывал, что «там на городских воротах прибит лист, на листу написана королева (шведская. Г.П.), как живая сидит, с мечом, а внизу под нею, наклонясь, стоит праведный государь Алексей Михайлович» (Соловьев, там же, стр. 1545). Этот лист как-будто должен был знаменовать собою нечто в роде вассальной зависимости, грозившей Московскому государству вследствие боярской «измены».
[414] Соловьев, там же, стр. 1554.
[415] Соловьев. История России, кн. II, стр. 1322.
[416] Соловьев, там же, стр. 1324.
[417] Котошихин, назв. соч., стр. 161.
[418] «Правда, русские, в особенности из простонародья, в рабстве своем и под тяжким ярмом, из любви к властителю своему, могут многое перенести и перестрадать, но если при этом мера оказывается превзойденною, то и про них можно сказать: patientia Saepellaesa fit tandem furor... в таких случаях дело кончается опасным мятежем, причем опасность обращается не столько против главы государства, сколько против нисших властей» (Описание путешествия в Московию, стр. 200–201).
[419] Соловьев. История, кн. III. стр. 303–315.
[420] Курс, III, стр. 46–47.
[421] Летом 1683 года какой-то чернец Иосиф распространял на Дону «воровские письма, в одном из которых, писанном от имени царя Ивана Алексеевича, говорилось, что он приказывает казакам итти в Москву, так как бояре его не слушают и не воздают ему достойной чести, «и другая многия непристойныя слова которых нельзя и сказать, да на патриарха и на архіереев написаны также многия непристойныя слова» (Соловьев. История России, кн. III, стр. 931). Народная психология, подсказавшая южно-русским «бунтарям» XIX века их прием агитации с помощью фальшивой грамоты от царя Александра II, была в интересующем нас отношении как две капли воды похожа на ту, применяясь к которой агитаторы XVII столетия сочиняли фальшивые грамоты от царя Ивана V.
[422] Соловьев. История, кн. II, стр. 1544.
[423] Курс, III, стр. 66.
[424] Там же, кн. II, стр. 1208.
[425] «Русь трогалась с востока на запад»... (Соловьев. История, кн. III. стр. 798).
[426] М.Н.Покровский. Русская история с древнейших времен. Том III, ст. 76–77.
[427] Вот пример. Брикнер совершенно прав, когда говорит, что после татарского нашествия русские общественно-политические отношения стали принимать восточный характер («Orientalischer Charakter des Stats»). Однако, он совсем неправильно обозначает это сближение словом «татаризация» (»Tatarisierung»). Татары называются у него «степными рыцарями» (»Steppiteenrer»), т.е. номадами. Стало быть, если бы Россия «татаризовалась», то занятия жителей и их взаимные отношения все более и более походили бы в ней на те, которые свойственны кочевым народам. Между тем мы видим совсем другое. Правда, северо-восточная Русь заимствовала у татар некоторые слова и некоторые обычаи. Но это заимствование осталось поверхностным. Не быту номадов уподоблялся внутренний быт великорусского государства, а быту больших земледельческих деспотий Востока. Эти деспотии тоже страдали от «степных рыцарей» и тоже кое-что заимствовали у них по части «культуры». Но несомненно, что под влиянием столкновений со «степными рыцарями» во всех восточных деспотиях все больше и больше развивались такие социально-политические отношения, которые все больше и больше удалялись от социально-политических отношений, свойственных кочевникам. Врикнер не заметил этого обстоятельства именно потому, что хотя он и стремился об᾽яснить исторический процесс ходом развития «культуры», но в своем общем взгляде на движущую причину культурного развития остался чистокровным идеалистом. Он рассуждал так: татары были непросвещенным народом; благодаря их нашествию Русь стала менее просвещенной, чем была прежде. Значит, она «татаризовалась». С точки зрения исторического материализма, о котором Брикнер, повидимому, не имел ни малейшего понятия, влияние кочевников на ход развития внутренних отношений у земледельческих народов представляется гораздо более сложным.
[428] История России, кн. 3, стр. 803.
[429] Там же, стр. 78.
[430] Соловьев. История России, кн. II, стр. 1012.
[431] История России, кн. III, стр. 876.
[432] Соловьев. История, кн. III, стр. 1029.
[433] Курс русской истории, ч. IV, стр. 19–292.
[434] При Михаиле было официально призвано, что великому государю «годен» мастер, знакомый с «астроломией». А на Стоглавом соборе царь отнес «астроломію» к числу «составов и мудростей еретических». Московская Обломовка все-таки шла вперед, хотя и крайне медленно.
[435] Воюете ли вы со своими соседями? – спросил однажды Стэнли представителей одного из племен экваториальной Африки. «Нет, – отвечали ему, – но иногда наши ребята идут на охоту в соседний лес. Иногда наши соседи заходят в наш. И тогда мы деремся, пока не победят они или не победим мы» (Stanley. Dans les Tйnкbres de l'Afrique. Paris. 1890, t. 2, p. 91). «Все африканские войны преследуют одну из двух целей: похищение скота или захват пленников» (Burton. Yoyage aux grands lacs de 1'Afrique Orientale. Paris. 1862, p. 666). Пленники работают на своих повелителей в качестве рабов или продаются.
[436] «Петр нуждался в деньгах и должен был изыскивать новые источники государственных доходов. Забота о пополнении государственной казны постоянным бременем лежала на нем и привела Петра к той мысли, что поднять финансы страны возможно только путем коренных улучшений народного хозяйства. Путь к таким улучшениям Петр видел в развитии национальной промышленности и торговли. К развитию торговли и промышленности он и направлял всю свою экономическую политику» (Лекции по русской истории С.Ф.Платонова, стр. 488). Кстати, М.Н.Покровский приписывает историческим идеалистам то соображение, что «так как речь шла о просвещении, то из иностранцев на первый план выдвигались врачи, аптекаря, художники и техники всякого рода» (курсив мой). Это «так как... то» меня удивляет. Историческим идеализмом выдвигается на первый план не техника, не медицина, не аптека, а «мнение» людей, т.-е. их общее миросозерцание. Аптека и техника очень сильно отдают материализмом.
[437] Покровский. Русская история, т. III, стр. 91.
[438] Экономическая отсталость Московского государства, ставившая русских торговцев в весьма невыгодное отношение к иностранным, обусловила собою, как мы это увидим ниже, упрочение националистического оттенка во взглядах московского торгового сословия.
[439] Он сам справедливо замечает, что в этом случае еще ничего не доказывает приводимое г. Туганом-Барановским замечание Кильбургера о любви всех русских, от высших до низших, к торговле (Там же, стр. 79). Он мог бы прибавить, что, по свидетельству иностранных путешественников, китайские горожане всегда очень любили торговлю. «Они – настоящие, действительные, прирожденные торговцы, – говорит о них Эрчибальд Колькхоун: – во всех обстоятельствах жизни, – даже в таких, которые меньше всего относятся к торговле, – они, если можно так выразиться, думают на деньги»... (цитировано у Элизэ и Онэзима Реклю: «L'Empire da Milieu», стр. 520–521). Известно, однако, что страсть к торговле не помешала китайцам далеко отстать от Западной Европы по части «торгового капитализма». Кильбургер утверждал, что московские лавки были в большинстве случаев так малы и узки, что продавцы с трудом поворачивались в них. Таково же было до последнего времени и большинство лавок в страстно любящем торговлю Китае. Как мало доказывает сама по себе «любовь к торговле», видно из того, что ею отличаются некоторые африканские племена, едва достигшие средней степени варварства.
[440] Покровский. Там же, стр. 101.
[441] Как велико было это влияние, видно из следующего. Когда голландец Андрей Виниус получил (в 1682 г.) концессию на устройство заводов близ Тулы, то для обезпечения заводов рабочими к ним приписана была целая дворцокая волость. На Западе фабрично-заводская промышленность возникла при совершенно иных производственных отношениях. Замечу кстати, что тульские заводы были основаны перед самой войной с Польшей, а их основатель обязался поставлять московскому правительству по удешевленным ценам пушки, ядра, ружья и вообще всякое железо. Отсюда видно, какую цель преследовало правительство, поддерживая предприятие Виниуса.
[442] Царские торговые монополии не только порождены были экономической отсталостью Московского государства, но и сами поддерживали эту отсталость. Псковский летописец жаловался на то, что в 1636 г. у псковичей было отнято право торговли льном: «и гость московский прислан велено ему купить на государя по указной цене московской; много от этого было убытку монастырям и всяким людям, деньги – корелки худыя, цена невольная, купля нелюбовная, во всем скорбь великая, вражда несказанная и всей земле связа, никто не смей ни купить, ни продать». Соловьев. История России, кн. II, стр. 1340.
[443] Уже знакомый нам газский митрополит Паисий Лигарид говорил, что наводнение христоименитого русского царства ересями, – т.е. движение, известное под имением раскола, – вызвано было отсутствием народных училищ и библиотек. Он прибавлял, что если бы его спросили: «какие столпы церкви и государства?», то он ответил бы: «во-первых, училища, во-вторих, училища и, в-третьих, училища». Крайнее невежество московского духовенства признано было еще на Стоглавом соборе.
[444] В одной из своих проповедей Епифаний Славинецкий восклицал, обращаясь к православным слушателям: «Раздерем жестокое сердце наших камение, ветхую грех наших расторгнем катапетазму, неплодную ума нашего истрясем землю, и злосмрадных душ наших, грехами умерщвленных, отвержем страсти, да от смерти духовной свободимся», и т.д. Это было, может быть, превосходно в смысле тогдашней риторики, но с точки зрения государственных потребностей это, наверно, не стоило хорошей пищали.
[445] Курс, ч. III, стр. 356.
[446] Соловьев. Там же, кн. II, стр. 805.
[447] Mилюков, назв. соч.
[448] Московские люди ставили себя гораздо выше иностранцев. Но в XVII веке столкновения с Западом подорвали это самомнение. Не один Хворостинин презрительно отзывался о своих соотечественниках. В 1634 г. Василия Измайлова, сына воеводы Измайлова, командовавшего вместе с Шеиным московской ратью под Смоленском, обвиняли в том, что он, восхваляя литовского короля, говорил: «Как против такого великого государя монарха нашему московскому полюгавству биться?» В том же был обвинен Гаврила Бакин, который, «будучи в Можайске, хвалил литовского короля и литовских людей перед русскими называя последних плюгавством» (Соловьев. История России, кн. II, стр. 1207–1208). Интересно, что москвичи задумались над своим «плюгавством» именно вследствие неудач в войне с соседним западным государством.
[449] Древне-русские сказания и повести о Смутном времени XVII века, как исторический источник. Изд. 2-е. СПБ. 1913. Стр. 232–237.
[450] Впрочем, не следует упускать из виду, что само по себе пьянство не считалось «на Москве» большим пороком (»вино есть веселие Руси пити»). Авторы указа обвиняют Хворостинина не столько в том, что он «беспрестанно пил», сколько в том, что в 1622 г. он «пил без просыпу» всю Страстную неделю и был пьян накануне Светлого воскресения. Этот грех они ставят рядом с тем его грехом, что он не пошел к заутрене и к обедне и разговелся раньше, чем следовало. Интересно, что против Никона выставлялись обвинения, очень похожие на те, которые указ великих государей выдвинул против Хворостинина. В царствование Федора Алексеевича на бывшего патриарха доносили, что он «по преставлении царя Алексея во весь Великий пост пил до-пьяна и, напившись, всяких людей мучил безвинно»... А вот обвинение, относящееся, повидимому, к области половой нравственности: «Приезжала к нему девица 20 лет с братом малым ребенком для лечения, и Никон ее запоил до-пьяна, отчего она умерла» (Соловьев, Ист. Рос., кн. III, стр. 819). Что это? Одна из ходячих форм доноса или же нравственная неудовлетворительность в самом деле выражалась тогда между прочим в поступках, подобных тем, на которые указывали такие доносы.
[451] «Да в твоем же письме написано государево именованье не по достоинству: государь назван деспотом русским; но деспота слывет греческою речью – владыка или владетель, а не царь и самодержец, а ты, князь Иван, не иноземец, московский природный человек, и тебе так про государское именование писать было не пристойно». Соловьев, кн. II», стр. 1373.
[452] Курс, т. III, стр. 312.
[453] Оно напечатано в часто цитированном мною выше XII т. Русской Исторической Библиотеки, изд. археографической комиссией, стр. 525–557.
[454] Истор. библ., XII, стр. 530.
[455] Платонов, наз. соч., стр. 256–257.
[456] Русская Истор. Библ., т. XIII, стр. 542.
[457] Там же, стр. 553.
[458] Там же, стр. 532.
[459] См. «Вновь открытые полемич. сочинения XVII в. против еретиков». СПБ. 1907, стр. 79–80. Сочинения эти открыты проф. В.И.Саввою и напечатаны под его редакцией и с его предисловием.
[460] В другом месте я уже говорил, что старинный московский термин «черная сотня» получил у нас теперь неудачное применение. Но при общеупотребительности этого термина к нему вынуждены прибегать даже те, которые его не одобряют.
[461] Там же, стр. 60–69.
[462] С.М.Соловьев. «История России», кн. III, стр. 67.
[463] Соловьев, там же, стр. 69.
[464] См. заметку г. Виталия Эйнгорна «Страница из биографии Воина Ордина-Нащокина» в февральской книжке «Вестника Европы» за 1897 г., стр. 883–887.
[465] Пусть читатель извинит меня в том, что я забегаю вперед, но мне сами собой приходят на память следующие строки из письма В. С. Печерина от 23 марта 1837 г. к гр. Строганову, бывшему тогда попечителем Московского учебного округа: «...Вы призвали меня в Москву... ах, граф! Сколько зла Вы мне сделали, сами того не желая! Когда я увидел эту грубо-животную жизнь, эти униженные существа... этих людей, на челе которых напрасно было бы искать отпечатка их Создателя; когда я увидел все это, я погиб... Я говорил себе: ... ты будешь вынужден спуститься к уровню этих людей, которых ты теперь презираешь; ты будешь валяться в грязи их общества, и ты станешь, как они, благонамеренным старым профессором, насыщенным деньгами, крестиками и всякою мерзостью! Тогда моим сердцем овладело глубокое отчаяние, неизлечимая тоска. Мысль о самоубийстве, как черное облако, носилась над моим умом...» Как видите, Печерина в Москве, тоже «окончательно стошнило».
[466] «О России в царствование Алексея Михайловича». Изд. III, СПБ. 1884. Стр. XVIII–XIX.
[467] Там же, стр. XX–XXI. Заметьте, что о батогах он не упоминает. Должно-быть, ему стыдно было признаться шведам в том, что на его долю выпало такое наказание.
[468] О России и т.д., предисловие, стр. XXV.
[469] О России и т.д., стр. 23.
[470] Там же, стр. 26–27.
[471] Там же, стр. 63.
[472] Там же, та же стр.
[473] Стр. XXXV.
[474] Там же, стр. 58.
[475] Там же, та же стр.
[476] Там же, стр. 58–59.
[477] Там же, стр. 1.
[478] Там же, стр. 111.
[479] Он родился (в 1617 г.) в Хорватии; учился в католической духовной семинарии в Вене; в 1646–50 гг. жил в Московском государстве, в 1660 г. опять приехал туда, а в следующем был сослан в Тобольск, где пробыл до 1676 г., умер после 1680 г.
[480] Оно было открыто и, в несколько сокращенном виде издано П.Безсоновым в приложении к нескольким номерам «Русской Беседы» за 1859 год.
[481] В указанном сочинении Крижанич местами излагает свои мысли в форме диалога между Борисом, – жителем Московского государства, мало сведущим в науках, – и Хервоем, славянином, отличающимся значительным образованием и выражающим взгляды автора.
[482] «Разумы наши тупы и руки неумƀтельны». Впрочем, это последнее замечание относится у него ко всему славянству. Русские, поляки и весь «словенский» народ не ведут «далекого торгования» ни на суше, ни на море. «Самыя арифтметики... не учатся наши торговцы. Зато инородные торговцы лехко нас прехитряют и обмамляют (обманывают) нещадно во всяко время» (Крижанич пишет на самодельном наречии, представляющем собою странную, порой малопонятную смесь из слов и форм разных славянских языков).
[483] Без сомнения, Крижанич имеет здесь в виду следующие слова Олеария: «Подобно тому, как русские по природе жестокосерды и как бы рождены для рабства, их и приходится держать постоянно под жестоким и суровым ярмом и принуждением и постоянно понуждать к работе, прибегая к побоям и бичам» (»Описание», стр. 194–195).
[484] «Мор, глад, и война, не чинят долгия пустоши: но по претечению мала годов, опять eя земля наполнит жителев».
[485] Курс, ч. III, стр. 325–326.
[486] Государя Крижанич везде называет вралем, считая это название гораздо более почетным, нежели царь.
[487] Осенью 1726 г. Меньшиков, Остерман, Макаров и Волков, в ответ на вопросы, поставленные членом Верховного Тайного Совета, подали записку, где, между другими мнениями, мы находим следующее: «Если армия так нужна, что без нея государству стоять невозможно, то и о крестьянах надобно иметь попечение, потому что солдат с крестьянином связан, как душа с телом, и когда крестьянина не будет, то не будет и солдата» (Соловьев. История России, кн. IV, стр. 887). Отсюда как нельзя более ясно видно, почему заботились бюрократы, – когда в самом деле заботились, – о «черняках».
[488] Я допускаю также возможность разрешить указанные противоречия Крижанича тем предположением, что его термины не всегда точно соответствовали его мыслям. Taк, «запертіе рубежев» могло в конце-концов означать у него крайне неудачно выраженное убеждение в необходимости покровительственного тарифа для развития национальной промышленности. Это последнее убеждение у него действительно было. Для примера укажу на раздел 2: «Об реместву», в приложении к No 1 «Русской Беседы» 1859 г., стр. 34, где Крижанич рассуждает, как рассуждал впоследствии Фридрих Лист.
[489] Он «есть был зачальник сему крутому владанию».
[490] Т.-е. что тирания одного лица все-таки лучше тирании парода.
[491] Летописный рассказ о призвании князей представляется Крижаничу глупой «басней». Он рассуждает так: князей призвали будто бы потому, что страдали от междоусобий. Но в таком случае зачем же призвали не одного князя, а целых трех? Славяне не могли сделать такую глупость.
[492] Т.-е. взимать с них подать, известную под именем десятины.
[493] Приложение к No 1 «Русск. Б.» за указ. год, стр. 7. Курсив наш.
[494] «В основе теории Иоанна Грозного, если отрешить ее от личных и временных влияний, лежали давние предания русской истории. Политическая жизнь северо-восточной России уже до Иоанна сложилась под влиянием многих условий, создавшихся гораздо ранее, не потерявших всей своей силы и после реформы Петра, не исчезнувших совершенно и в наше время» («В. Н. Татищев и его время» В.Н.Попова. Москва. Стр. 67). В 1861 году, когда появилось сочинение Н. Попова, слова эти требовали оговорки разве лишь в том смысле, что до Грозного политическая жизнь северо-восточной Руси еще только стремилась принять тот вид, который после пего без всяких серьезных перемен существовал до «вашего времени» включительно.
[495] В другом месте он говорит споим подданным, на этот раз по-латыни: «Quas autem et quales uobis dabimus Libellаtes? Nempe liberalissimas. Dabimus entai uobis omnes pene illas libertates, quibus gaudent quicunque Europae populi: quantum eas non rescire potuimus, et quantum expedit saluti, ac felici statui huius regni et totius populi».
[496] Как читатель помнит, еще Бодэн говорил, что в «вотчинных монархиях» служилые люди являются холопами своих государей, а в европейских монархиях этого нет.
[497] Впрочем, и в Московском государстве поместья могли делиться лишь с согласия правительства.
[498] «Реместников никто не смеет изобижать, никто на понужныя (принудительные) работы приганять». Крижанич советует давать свободу тем детям холопов, которые научатся какому-нибудь «мудрому реместву».
[499] Там же, стр. 65.
[500] Там же, I, стр. 10–11.
[501] Авраамий Палицын сообщает, что в Смутное время «обретеся безчислено расхищаемо всякого хлеба, и давныя житницы не истощены, и поля скирд стояху, гумны же пренаполнены одоней и копон и зародов до четырехнадесять лет от смятения во всей Русской земле, и питахуся вси отпол старыми труды; а ранее бо и сеятва и жатва метяшеся, мечю бо на выи у всех всегда надлежащу» (Русская Истор. Библ., т. XIII, стр. 481). Само собою разумеется, что в передовых странах Запада дело обстояло уже совсем не так. Правда, и в Московском государстве товарный обмен сделал в течение XVII в. довольно значительные успехи. Но все относительно. По сравнению с Западом Московская Русь, бесспорно, и тогда оставалась страной натурального хозяйства.
[502] Курсив в подлиннике. «Русское государство в половине XVII в.», приложение к кн. IV «Русской Беседы» за 1859 г., стр. 36.
[503] Предисловие к сочинению Крижанича, стр. XXVI приложения к «Русской Беседе», No 1 за указ. год.
[504] «Ничего не может быть гибельнее для известного народа и государства, как если люди оставляют в пренебрежении или совсем покидают добрые нравы, законы, учреждения, язык своей родины и воспринимают нравы чуждые, речь чуждую, стараясь преобразить себя в народ чуждый» (Перевод П.Безсонова).
[505] Курс III, стр. 328–329.
[506] В 1648 г. сборник «Книга о вере», составленный игуменом Киевского Михайловского монастыря Нафанаилом и изданный в Москве «тщательством» царского духовника Стефана Вонифатьева, разошелся в течение первых двух месяцев в 800 экземплярах (В.А.Келтуяла, назв. соч., ч. I, кн. 2-я, стр. 844). Значит, Москва не отказывалась читать того, что было ей по-плечу.
[507] Сочинения, ч. XII. Москва, 1882. Стр. 243.
[508] Представители собственно купечества и до сих пор, как известно, весьма немногочисленны.
[509] Это был русский перевод книги поляка Aн.Φр.Модревиуса (Модржевского, 1503–1589) «De emendanda republicа», частью вышедшей в Кракове в 1551 г., а полностью в Базеле в 1554 г. Книга эта для своего времени замечательна во многих отношениях. Ее автор высказался между прочим за равенство всех перед законом и был убежденным анти-клерикалом. О нем см. у Л.Гумиловича, Geschichte der Staatstheorien», Innsbruck, 1903, стр. 163–174. О русском переводе его книги, сделанном, вероятно, в 1678 г., см. у А.И.Соболевского: «Переводная литература Московской Руси». Спб. 1903, стр. 160.
[510] Соловьев. История России, Кн. III, стр. 1051–1052.
[511] Соловьев. История, кн. III, стр. 1048–1050. Ср. также ст. проф. А.К.Бороздина «Сильвестр Медведев» в сборн. «Русское религиозное разномыслие» (СПБ. 1907). Проф. Бороздин отмечает собственно отношение Медведева к Софье, но за Софьей стоял и действовал В.В.Голицын. Иностранцы считали его даже сторонником иезуитов, а некоторые из них приписывали ему намерение перейти в католичество.
[512] De la Neuville. Relation curieuse et nouvelle de Moscovie. La Haye, 1699, pp. 14–16.
[513] Там же, стр. 177–178.
[514] Возможно, что между прочим и к этим «лицам» относится отзыв де-ла-Нэвиля о «весьма интересных картинах», украшавших жилище В. В. Голицына. Московские писцы видели только «лица», а не художественные произведения. Впрочем, в то время уже не один Голицын украшал свое жилище произведениями искусства. «Картины, эстампы, географические чертежи и другие подобные предметы не составляли принадлежности одного только дворца, но проникали, хотя и редко, и в боярские дома, – говорит И.Забелин. – Притом знаменитый Матвеев... и не менее знаменитый В.В.Голицын в настоящем случае не могут, однако ж, служить единственным исключительным примером. Кроме некоторых других лиц, современников им, мы можем указать также на Никиту Ивановича Романова..., который... любил музыку, носил даже немецкое платье, по крайней мере выезжал в нем на охоту. Вообще, в XVII столетии боярский быт стал во многом изменяться против прежнего. Примеры первых бояр не оставались без влияния». Даже у Никона было «двести семьдесят листов фряжских, лист печатной большой подволочной; на большом листу часть Козмографии; на большом же листу Козмография». В 80-х гг. XVII в. Афанасий Зверев резал для государя «всякие фряжские рези» (»Домашний быт русских царей в XVI и ХVII ст.», ч. I, Москва, 1872, стр. 180 и 177).
[515] Соловьев. История, кн. III. стр. 1050–1051.
[516] Есть основание думать, что на мысль об улучшении положения крестьян В. В. Голицын был наведен благородным Модржевским, который в своем выше названном сочинении с жаром обрушивался на помещиков, обращавшихся с крестьянами как с рабами и ставивших их в невыносимое положение (Гумилович, назван. сочин., стр. 169–172).
[517] «Курс русской истории», III, 460.
[518] Де-ла-Hэвиль, указ. соч., стр. 215.
[519] Голицын говорил, что из так называвшихся тогда «даточных» крестьян и холопов выходили очень плохие воины.
[520] Там же, стр. 215.
[521] Там же, стр. 221–223. Не лишено интереса, что распоряжению Голицына де-ла-Нэвиль приписывает расстановку по дорогам Московского государства верстовых столбов.
[522] Уже самое учреждение помещичьего поиска отразилось неблагоприятно на судьбе городов. Я указывал на это во введении, ссылаясь на мнение Ключевского. Теперь приведу чрезвычайно интересное мнение Соловьева. «В древности городские жители имели то важное значение, что участвовали своими особыми полками в военных действиях, которых исход во время княжеских усобиц много зависел от них. Даже в начале княжения Ивана III московские полки отправлялись на рать с особым воеводою. Но потом установление многочисленного помещичьего войска дало правительству возможность не нуждаться более в городовых полках; горожане перестают участвовать в войсках, становятся вполне сословием невооруженным, вполне мужиками, полулюдьми относительно полных людей, мужей, т.-е. вооруженных, ибо, по тогдашним понятиям, только вооруженный, только воин был полный, полноправный человек» (История, кн. III, стр. 657).
[523] Там же, стр. 218.
[524] Курс, III, 161.
[525] Там же, та же стр.
[526] «Письма твои... к нам все дошли в целости, – писала она ему во время второго крымского похода. – Из-под Перекопи пришли отписки в пяток 11 числа. Я брела пеша из-под Воздвиженского; только подхожу к монастырю Сергия чудотворца, к самым Святым воротам, а от ворот отписки о боях. Я не помню, как взошла чла, идучи! Не вƀдаю, чƀм Его, Свƀта, благодарить за такую милость Его, и Матерь Его, и Преподобного Сергія чудотворца милостиваго! Что ты, батюшка мой, пишешь о посылкƀ в монастыри, все то исполнила: по всƀмъ монастырям бродила сама, пƀша» (Соловьев. История, кн. III, стр. 1022–1023). Никакое сомнение в искренности чувства здесь не допустимо.
[527] Соловьев. История, кн. III, стр. 1079–1080.
[528] Полное собр. соч. Н.Г.Чернышевского, т. VIII, стр. 318–319.
[529] Ключевский. «Курс», III, 416–462.
[530] Де-ла-Нэвиль приехал в Москву посланцем от польского короля незадолго до победы партии Петра над Голицыным и Софьей. Г. П.
[531] Альфрэ Ρамбо (Histoire de la Russie, 5 йd., p. 350) называет Софью «une Byzantine» и противопоставляет ей Петра, который стремился «а кtre un europйen». Но ведь и Петр, подобно Софье, родился, воспитался и действовал в «византийской» обстановке.
[532] Соловьев, История России, кн. III, стр. 737.
[533] Это одна из бесчисленного множества возможных иллюстраций к тому замечанию г. Е.Голубинского, что после нашествия монголов русские, – точнее, великорусские, – люди «стали представлять из себя как бы европейский Китай» (История русской церкви, т. I, первая половина тома, Москва, 1901 г., стр. 561). А вот еще две иллюстрации: «Наши великие князья и цари, после торжественных приемов иностранных послов, обыкновенно обмывали руки, к которым во время этих приемов прикладывались послы и которые считались оскверненными таким прикосновением... В кормчих предлагались такого рода правила: аще в суднƀ будет латина ƀла, измывши, молитву сотворити и т.п. (А.Царевский. Посошков и его сочинения. Москва, 1883, стр. 144).
[534] Соловьев. История, кн. II, стр. 724. Именно сопротивление духовенства в побудило Бориса послать за границу, – в Любек, Францию, Австрию, Англию, – молодых людей, которые оттуда уже не вернулись. Характерно для Московского государства, что оно не позабыло об этих «ребятах», несмотря на все треволнения Смутного времени. В июле 1617 года, отправляя послов в Англию, оно наказывало им «говорить накрепко всякими мерами, чтоб велено было ребят, отданных при Годунове в учение, сыскать и отдать». Правда, оно прибавляло: «а каких отдадут, взять к себе и держать с великим бережением, тесноты и нужды ни в чем не делать, их этим не отогнать, во всем их тешить» (Соловьев, там же, стр. 1174; ср. стр. 1178–79). Разумеется, привезя в Москву, их можно было бы попотчевать «батожьем». Английское правительство русских «ребят» не «отдало», об᾽явивши, что оно никого неволей у себя не держит.
[535] Русская ист. библ., т. XIII, стр. 478–488. Против бритья бороды восставал и Максим Грек, хотя его религиозность и не была исключительно внешней, обрядовой религиозностью. В своем послании к Ивану Васильевичу о брадобритии он утверждал, что усы и борода «предобрейше умышлена быша премудрƀйшим хитрецем Богом, не точію к раззнанію женскаго пола и мужскаго, но еще и честновидному благолепию лиц наших». Он рассказывает, что «нƀціи» остригли козлу бороду, «и той не стерпƀв досады... самого себя убил до смерти, бія без милости главу свою к земли». На этом основании Максим назидательно прибавляет: «уразумеем, коль честно и любезно есть бородное украшение и безсловесному животну». «МитрополитДаніил и егосочиненія». – Исследование В. Жмакина, Москва, 1881, приложение, стр. 83–84.
[536] Рукописная история об Иове патриархе, цитир. у Соловьева. Ист., кн. II, стр. 726.
[537] Соловьев, кн. II, стр. 298–299.
[538] Летопись занятий археограф. комиссии, вып. X, стр. 21.
[539] В одном из других списков: сиртыки.
[540] В одном из других списков: христианские.
[541] В большинстве др. списков: страны.
[542] Там же, стр. 22–23.
[543] Еще Берсень говорил Максиму Греку: «Которая земля переставляет обычаи свои» та земля не долго стоит».
[544] Соловьев, кн. II, стр. 720.
[545] Интересно, что Иван IV, которому тоже приходилось иметь дело с английскими купцами, величал их торговыми мужиками. Этим ярко характеризуется его отношение к московскому «торговому капитализму».
[546] Исторические монографии и исследования Николая Костомарова, т. XX, Очерк торговли Моск. гос. в XVI и XVII столетиях, стр. 22.
[547] Соловьев. История, кн. II, стр. 1175–1176.
[548] Соловьев, кн. III, стр. 886.
[549] В 1646 г. московское купечество подало царю жалобу на «английских немцев», в которой, на-ряду со многими другими доводами, стояло следующее курьезное соображение: «У них в жалованной грамоте написано, что грамота дана им по прошенью их короля Карлуса; но они, Англичане, торговые люди все Карлусу королю неподручны, от него отложились и бьются с ним четвертый год» (Соловьев, Ист. России, кн. II, стр. 1507–1508). Довод от монархизма и впоследствии весьма часто фигурировал в «ходатайствах» российского купечества.
[550] Назв. соч., стр. 180.
[551] Само по себе «неведение» еще ровно ничего не решает в делах этого рода. Как ни велико «неведение» так-называемых дикарей, они начинают испытывать вражду к чужеземцам только тогда, когда те притесняют их.
[552] Соловьев, кн. II, стр. 1544.
[553] Протопопом Благовещенского собора был в то время царский духовник Стефан Вонифатьев.
[554] Ключевский. Курс русской истории, ч. III, стр. 365. Ср. также Соловьев, История, кн. II, стр. 1525–1526.
[555] Сочинения А.П.Щапова, т. I, СПБ. 1906, стр. 219–220.
[556] Щапов, там же, стр. 204, примечание.
[557] Πроф. Каптерев говорит, что к западной науке Никон относился так же враждебно, как и его противники расколоучители. Однажды Паисий Лигарид сослался в разговоре с ним на физику. Никон сердито возразил ему: «Недостало тебƀ святых божественных книг в отвƀт, которыми велƀли апостоли святіи и отцы святіи учити, и заповƀди и отвƀти творити. Ты же физиками и орƀховым листьем и иными шпынскими прибавками отвƀты творишь». Вообще, о словам проф. Каптерева, понимание Никоном «разных явлений, приемы и характер его суждений настолько у него были сходны съ его противниками – старообрядцами, что часто почти нет никакой возможности отличить рассуждения Никона от рассуждений противников его реформы (»Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович» т. II, стр. 358).
[558] Щапов, там же, стр. 210–211.
[559] Соловьев, кн. III, стр. 1095.
[560] Н.Ф.Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович. Сергиев посад, 1912. Т. II, стр. 528.
[561] Там же, стр. 527.
[562] Там же, стр. 531.
[563] Там же, стр. 541.
[564] Там же, стр. 541–2, примеч.
[565] См. гл. «Борьба светской и духовной власти».
[566] Цит. соч., т. II, стр. 529.
[567] Там же, стр. 532.
[568] Там же, стр. 533.
[569] Сочин., т. I, стр. 217.
[570] Вот почему жестоко ошибается Г.П.Смирнов, утверждающий, будто памятники показывают, что в основе раскола лежали стремления исключительно религиозные, и будто ни в одном из них нет «ни одного слова против жизни государственной, ни одного намека на тяжесть социального строя, ни одного вздоха о порядках экономических» (Внутренние «опросы в расколе в XVII веке. Исследование из начальной истории раскола по вновь открытым памятникам, изданным и рукописным. С.-Петербург, 1898, стр. СХХVIII–СХХIХ). «Намеки» и «вздохи» в памятниках этого рода были. В своем взгляде на раскол Щапов гораздо более прав, нежели исследователи, подобные г. Смирнову. Но Щапов ошибся в противоположном направлении: он взглянул на «вздохи» и «намеки» как на выражение сознательного демократического протеста, а между тем такого протеста тогда не было и быть не могло.
[571] «Земство и раскол», в соч. А. Щапова, т. I., стр. 485–487.
[572] Выражение И. Харламова. См. его ст. «Идеализаторы раскола» в журн. «Дело», 1881, авг. и сент.
[573] Исторические монографии и исследования, т. VIII, стр. 422–425.
[574] Северно-русские народоправства, стр. 426.
[575] Ср. Е.Голубинского «История русской церкви», т. II, 1-я половина, стр. 579, примечание. Ср. также В.Ф.Боцяновского. Русские вольнодумцы XIV–XV в. в. – «Новое Слово», 1896, кн. III, стр. 168.
[576] См. «Истины показание к вопросившим о новом учении». – Соч. инока Зиновия. Казань, 1863, стр. 358. Ср. также стр. 430 и 510.
[577] Е.Голубинский, назв. соч., т. II, 1-я половина, Москва, 1900, стр. 828; ср. также 826–27 и 829–30.
[578] Русские диссиденты. – Староверы и духовные христиане. Спб., 1881, стр. 110.
[579] Назв. соч., стр. 54.
[580] «Единоверие» датирует, как известно, с конца 1800 года.
[581] Юзов, там же, стр. 55.
[582] Юзов, там же, стр. 54.
[583] Костромской протопоп.
[584] «Житие протопопа Аввакума, написанное им самим», изд. 2-е, СПБ. 1904, стр. 7.
[585] Там же, стр. 26.
[586] Житие, стр. 7.
[587] Предшественник Никона был «проще». Но по отношению к нему Аввакум, Неронов и их друзья сами выступали в роли новаторов, недостаточно почитавших старый религиозный обряд. Такова ирония истории!
[588] Кaптерев, назван. соч., т. I, стр. 381–382.
[589] Житие протопопа Аввакума, стр. 22.
[590] Кaптерев, назв. соч., т. I, стр. 382.
[591] Каптерев. Патриарх Никон и царь Алексей Михайлович, т. I, стр. 351–362.
[592] «Митрополит Даниил», стр. 761 и 762.
[593] См. «Обвинительные статьи против православия», выписки из книги, взятой в сент. 1853 г. у окружного наставника филипповского согласия Савватия Петрова. Сборник правител. сведений о раскольниках, составленный Ф.Кельсиевым, вып. IV, Лондон, 1862, стр. 191–197.
[594] Том I, стр. 470.
[595] Там же, стр. 206.
[596] Кельсиев. Сборн. Правит. свед. о раскольниках, вып. IV, стр. 285. Эти показания написаны чиновником и подписаны Осипом Семеновым. Можно, пожалуй, спросить, заслушивают ли они полного доверия, будучи даны при таких условиях. Но, как мы видели, допрашиваемый не боялся говорить очень смело. Что же касается чиновника, то он по обыкновению склонен был преувеличивать, а вовсе не смягчать радикализм воззрений допрашиваемого. Слова, набранные курсивом, наверно, были подчеркнуты им, а не Осипом Семеновым.
[597] Там же, стр. 287.
[598] См. выписку из послания Евфимия к московским старцам 1787 г., у Кельсиева, вып. 4-й, стр. 252–256. Тут надо согласиться с г. П.Смирновым, который говорит, что отказ от молитвы за царя логически вытекал из того убеждения, что наступило царство антихриста: «Въ самомъ дƀлƀ, возможно молиться за царя невернаго и подобаетъ молиться по апостолу, но невозможно молиться за антихриста или за чрезвычайный сосудъ его, потому что это было бы даже грƀшно» (Внутренние вопросы в расколе, стр. 105).
[599] Соч., т. I, стр. 464.
[600] «Послание к московским старцам», у Кельсиева, вып. 260–261.
[601] Послание, там же, стр. 262.
[602] Этот беглый солдат не получил никакого образования.
[603] См. выше выписку из единоверческой челобитной.
[604] Кельсиев, там же, егр. 265. – Трудно решить, кем подчеркнуты здесь слова: «табакъ носомъ пити» и «глад будетъ великъ».
[605] История раскола у раскольников. «Вестник Европы», апрель 1871 г., стр. 500.
[606] Сочин., т. I, стр. 532.
[607] Щапов, там же, стр. 550–551.
[608] Щапов, там же, стр. 550–551.
[609] Русские диссиденты, стр. 50. Ср. также стр. 22.
[610] Это признает даже Щапов, так сильно склонный к идеализации раскола. «Национальное сознание массы народа, – говорит он, – почти всецело проникнуто было духом старины и устремлено было не вперед, а назад, к преданиям XVI и ХVII вв.» (Соч., т. I, стр. 221).
[611] Юзов, там же, та же стр.
[612] Старообрядческие проповедники провозглашали: «Нƀсть въ градƀхъ живущимъ спасения» (П. С. Смирнов, назв. соч., стр. 101). То же твердили на свой ладъ (въ девятнадцатом веке!) славянофилы, – например, И.С.Аксаков, охотно противопоставлявший «село» городу, – и народники, видевшие в городском рабочем населении гораздо более вредный, нежели полезный, в культурном смысле продукт «неправильного» экономического развития России.
[613] Странники. Очерк из истории раскола. «Русская Мысль». 1884 г., No 5, стр. 127.
[614] Покойный И. Харламов с замечательной для своего времени ясностью подметил отрицательное влияние географических условий на ход умственного развития нашего народа. «Когда, как у нас, равнина обширна до отчаяния, – писал он, – когда для исхода накопившегося недовольства постоянно в течение целой тысячи лет открыт клапан заимки пустопорожних мест, тогда понятно, что процесс нарастания, скучения населения происходит чрезвычайно медленно, незаметно. Не возникает в сознании и мысли о возможности какой-нибудь другой борьбы с социальным злом, кроме колонизационного ухода. Да и самое зло, от которого уходит человек, только чувствуется. От тяготы человек уходит, знает, что там тяжело, а почему именно, отчего главным образом происходят тягости и неудобства, – о том почти нет и мысли» (Назв. статья, «Р. М.», 1884, кн. II, стр. 197). К сожалению, И.Харламов не был знаком с материалистическим об᾽яснением истории, и потому высказанная им глубоко-верная мысль не получила у него надлежащего развития; а в своей полемике с «идеализаторами раскола» он сам склонялся в последнем счете к идеалистической точке зрения. С его соображениями о значении географическиху словий в ходе развития русской общественной мысли интересно сопоставить жалобы Г.И.Успенского на «сплошной быт» русского народа.
[615] «Богачи-раскольники, захватившие в свои руки, особенно со второй половины XVIII столетия, многие отрасли торговли и промышленности и завладевшие торговлею предметами местной промышленной производительности, чрез то держали в своих руках значительную часть местного народонаселения. Бедные крестьяне, поставленные в такую неизбежную зависимость от торговых раскольников, иногда поневоле принимали раскол, чтобы не лишиться средств безбедного существования; они или нанимались к богатым раскольникам в работники или продавали им свои произведения и, чтобы в том и другом случае пользоваться выгодами, одинаковыми с раскольниками, соглашались на раскол» (Щапов, I, 319). – «Как только скопец станет на ноги (не говоря уже о богачах), он уже обращается к наемному труду» (Олекминские скопцы. – Историко-бытовой очерк I-на. СПБ. 1895, стр. 28). «Наемным рабочим скопцы, правда, дают более высокую, чем горожане или крeстьяне, плату и лучшую пищу, но зато выжимают из них все соки» (Там же, стр. 21).
[616] «Г. Розов говорит, что в числе основных идей основателя страннического согласия, Евфимия, находится и идея коммунизма; но вряд ли с этим можно согласиться. Сами бегуны не так толкуют слова своего учителя, относящиеся к этому предмету; по мнению боль большинства странников, эти слова относятся только к поземельной собственности, рыбным ловлям, соляным сферам и т.п. предметам» (Русские диссиденты, стр. 116).
[617] Соч., I, стр. 170.
[618] Историч. монографии Н.Костомарова», т. II, стр. 308.
[619] Там же, стр. 284.
[620] Разиновщина, как социологическое и психологическое явление народной жизни. Издание М.О.Вольфа, стр. 41–42.
[621] Костомаров, назв. соч., стр. 337.
[622] Вся половина XVII в., – говорит Костомаров, – была приготовлением эпохи Стеньки Разина... (Назв. соч., стр. 212).
[623] Этим и об᾽ясняется возникновение долго жившей в народе легенды, согласно которой Стенька Разин не был казнен, а только скрылся и «придет, непременно придет» (ср. Костомарова, наз. соч., стр. 380). |
|||||
|